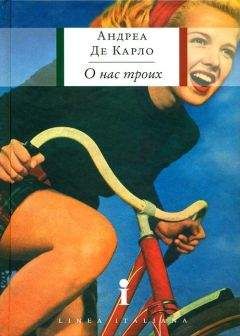Мизия бросилась вниз, как парашютист в пустоту, не колеблясь ни секунды, и приземлилась куда изящнее брата. Мы с Марко прыгнули не глядя, я слегка подвернул ногу, но не остановился; мне казалось, что я бегу быстрее собственных чувств, быстрее мыслей и воображения. Вот мы уже выскочили с черного хода и помчались по мощеному проулку, завернули за угол, еще раз и опять помчались, уже по другой улочке, сердце стучало все громче, легкие горели, но никто не отставал. Марко сказал, задыхаясь: «Кажется, наша машина где-то там». «Где?» — спросила Мизия. «Кажется, там, но я не уверен», — ответил Марко, и мы снова свернули за угол, направо, налево, опять направо, и уже не могли вспомнить, где оставили машину. Я сказал: «Может, это опасно, может, нас там уже ждут» — мы даже не знали, за кем гонится полиция, за нами из-за того, что мы влезли в бывший дом Мизии, или за ее братом, а ее брат все с такой же невероятной скоростью перебирал ногами, и Мизия бежала рядом удивительно легко, но в какой-то момент устала и прислонилась к стене, возле входа в кондитерскую, яркую, как конфетка, и всю в желтых лампочках, и Марко схватил ее за руку, потащил вперед, на бегу шепнул ей что-то на ухо, и она оттолкнула его и помчалась дальше, но я видел, что на лице ее мелькнула улыбка; а между тем уже настал вечер, воздух чуть покалывал щеки, напоминая о близкой зиме, и хоть никто из нас не успел это почувствовать, но зима уже была здесь, рядом, пока мы неслись сломя голову через весь город, не зная, что будет дальше, и в нас бурлили панический страх и пьянящий восторг, все чувства стали острее и глубже, а в кровь толчками поступал чистый адреналин.
В середине февраля я поехал к Марко и Мизии в Лукку: здесь, недалеко от города, в парке старинной виллы восемнадцатого века они только что начали снимать новый фильм.
Я оставил машину под большим безлистым дубом и пошел по аллее из гравия к лужайке, где расположилась съемочная группа с ее трейлерами, грузовиками, генераторами, отражателями, тележками, кабелями и всем, что полагается на настоящих съемках. Странно было видеть всю эту гору техники и толпы людей вместо горстки дилетантов, снимавших первый фильм почти без ничего, видеть Марко у огромной кинокамеры на подъемнике, а рядом целое войско механиков, электриков, помощников, техников с глазами наемников; странно было видеть разодетого Сеттимио Арки в роли исполнительного продюсера и как он расхаживает по съемочной площадке, утверждая свои только что обретенные полномочия.
Странно было видеть Мизию, бледную, худую, коротко стриженную, в лучах искусственного света, придававшего теплоту краскам лужайки, согревающего воздух в радиусе метров десяти и создававшего там кусочек весны. Я остановился и стал смотреть, как она идет рядом с актером с лицом сентиментального осла, которого я уже видел в каком-то фильме; их разговор становился все более резким, они бурно жестикулировали, а потом она пускалась бежать к огромной вилле. Сентиментальный осел на миг замирал в нерешительности и бежал за ней; следом двигались камера на подъемнике, Марко, оператор, помощник оператора, механики и электрики; затем камера поднималась, чтобы снять сцену сверху.
Казалось, что фильм немой: тишина стояла в тысячу раз более глубокая и профессиональная, чем в Милане, на первых съемках, парк, словно гигантская губка, впитывал голоса, звуки, шаги. Я смотрел на Марко, следившего в этой тишине за каждым движением Мизии: они делали друг другу знаки, их взгляды постоянно встречались, они мгновенно ловили движения, мимику друг друга и, как прежде, держались чуть отдельно от остальных, даже у всех на виду. Это казалось мне настоящим чудом; вспомнилось, как они сидели в обнимку на заднем сиденье старой «альфа-ромео», было пять утра, мы только что вернулись из Цюриха в Милан, и я тогда подумал, что им самой судьбой суждено быть вместе, что им не убежать друг от друга, как бы они ни пытались.
В первый же перерыв между сценами они подошли ко мне с приветствиями, объятиями, похлопываниями по плечу, широкими улыбками и массой приятных слов.
— Как же здорово, как здорово, что ты приехал! — сказала Мизия.
— Наконец-то явился, засранец, а то вечно ломается, такой весь из себя занятой и скромный до чертиков! — сказал Марко.
— Не хотел вас отвлекать в первые дни съемок, — сказал я. Но я действительно не сразу откликнулся на их приглашение, сам не знаю почему: то ли меня пугала мысль, что Мизия, не успев чудом спастись от саморазрушения в Цюрихе, снова угодит в кино, то ли дело было в наших запутанных отношениях. Поговорить нам толком не удалось: наемники не спускали с нас глаз, без Марко никто не мог ничего решить, а Сеттимио Арки требовал, чтобы все, в том числе и я, постоянно восхищались его новым назначением.
Вечером, когда съемочная группа разъехалась, а Сеттимио отправился в Лукку, на приятный ужин с помощницей костюмера, мы наконец-то остались одни. Втроем мы сидели на кухне в маленькой квартирке прямо на вилле, которую Марко и Мизии предоставили на время съемок. Было холодно, газовая печка мало чем могла помочь против вековой сырости стен и высоких потолков, против старых щелястых окон. Мизия пожарила несколько белесых кусков индейки в непропеченном тесте, Марко нарезал хлеб и сыр, открыл бутылку красного вина.
— Вы теперь самая настоящая пара, — сказал я; непривычно было смотреть, как они вместе занимаются будничными делами и как Мизия ходит в сером свитере Марко, как они задевают друг друга бедром или плечом, проходя мимо, и находиться там, где они вместе отдыхают и спят.
Они засмеялись.
— Исключительно ради искусства, — сказала Мизия. Марко притворно возмутился и сделал вопросительный жест.
Они были похожи, похожи гораздо больше, чем мне казалось раньше: одинаковые движения и тембр голоса, одинаковая привычка каждую секунду искать друг друга взглядом, соотносить друг с другом каждый жест, одинаковая потребность быть в постоянном контакте, касаться руки или волос, перебрасываться двумя-тремя словами. Но за всем этим ощущались напряжение и разлад, они пронизывали тепло общения, как холодные сквозняки — кухню, устроенную в бывшей людской, заражая меня едва уловимым, но неотступным чувством неловкости.
Марко приводили в ярость продюсеры: когда я спросил, как идут съемки, он ответил:
— Отлично, только слегка напрягает пускаться в путь с шайкой воров и мерзавцев, которые только и ищут, чего бы стащить или испортить.
— Постой, а как же Сеттимио? — сказал я и тут же вспомнил золотые часы прямоугольной формы, которые заметил у него на запястье.
— Сеттимио стал таким же, как они, — отозвался Марко. — Мгновенно. В душе он всегда к этому стремился, и при первой же возможности с ним случилась метаморфоза; такое впечатление, что он всю жизнь делал деньги на кино.
— Врун и негодяй, — сказала Мизия. — Он мерзкий, мерзкий. — Она закатила глаза и состроила одну из своих забавных рожиц, но как-то вымученно, более нарочито, чем когда я ее видел последний раз. — На днях притащил прямо на съемочную площадку двух фотографов, хотя я ему сто раз говорила, что не хочу фотографироваться; ему, видишь ли, надо поддерживать связи с какими-то дурацкими журналами.
Я смотрел на нее, такую безудержно честную и бескомпромиссную, и на миг мне показалось, что в фильме Марко ей достанет сил снова бросить вызов миру, но в следующую секунду я уже не был в этом уверен. Я посмотрел на Марко, ища подтверждения, но в каждом его взгляде, брошенном на Мизию, читалась та же двойственность, та же смесь веры и беспокойства.
— Да, эта история с фотографиями несколько странная, — сказал он. — Но тогда тебе и в фильме сниматься не стоит, или как?
— Это другое, — как всегда, горячо возразила Мизия. — Фильм, он как собачонка, которая бежит и бежит с тобой рядом, ты поворачиваешь, она — тоже, и через пять минут ты о ней забываешь, но продолжаешь бежать. Но даже забыв о ней, ты все равно о ней думаешь, потому что все это ради нее. И никуда тебе от нее не деться, потому что ею, то есть фильмом ты живешь. А фотография — это только часть тебя, случайный, придуманный кадр. Обман.
— А разве фильм, по большому счету, не обман? — сказал я. — Только более сложный, продуманный и убедительный? — Меня словно подхватило течением, я завидовал тому многостороннему общению, какое давало им общее дело; а еще я тревожился за нее.
— Нет, — ответила Мизия. — А может, и да. Именно поэтому я бы никогда не смогла сниматься у других режиссеров. Никогда. Не смогла бы подчинить себя воображению или идеям человека, с которым у меня нет ничего общего. — И добавила, глядя на Марко: — И именно поэтому меня тошнит от присутствия этих воров, Сеттимио или того ублюдка продюсера, Маринони.
— Ясно, — произнес Марко с натянутой улыбкой. — Но нас это касаться не должно. Я хочу думать только о фильме, который пытаюсь снять, остальное неважно.