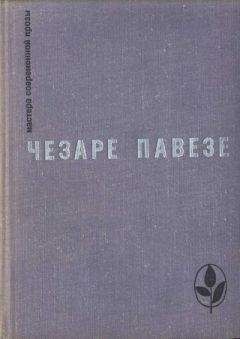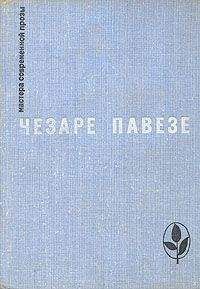— Время идет, а виноград все никак не созреет, — сказал я. — Когда же мы вернемся в Турин?
Орест не мог про это слышать. Он сказал, что не понимает, чего мне еще надо: я ем досыта, пью хорошее вино, целый день ничего не делаю…
— Вот то-то и оно, — сказал я. — Мы ничего не делаем, а твоя мать работает. Все здесь работают на нас.
— Тебе скучно? — сказал Орест. — Или ты боишься, что доставляешь слишком много беспокойства? Ерунда. Ты даже тете Джустине угодил.
(Это я настоял, чтобы мы пошли к обедне — просто из уважения к семье Ореста.)
— Ну что, сегодня на мельницу не пойдем?
Мы каждый день спускались с холма в котловину, где находилась вторая усадьба, слонялись по гумну, пили пиво, которым угощал нас отец Ореста. Но что было хорошо в Россотто, так это сенокос, луга, заросшие клевером, выводки гусей. Под вечер мы играли в шары с работниками Пале и Кинто, а Орест ходил по делам на станцию.
— По-моему, — говорил Пьеретто, — тут дело нечистое. Из Генуи он каждый день кому-то отправлял письма.
Орест, когда с ним заговаривали об этом, только смеялся и качал головой. Так было и в тот раз, когда, проходя мимо домика с геранью на окнах у железной дороги, он крикнул «добрый день» и ему откликнулся молодой и веселый голос. Орест сказал нам, чтобы мы шли дальше, и завернул за угол.
— Так, значит, — сказал Пьеретто, когда он показался на гумне, — это дочь начальника станции?
Орест опять засмеялся и ни слова не сказал.
Благословенным уголком была эта Мельничная котловина. Даже у шлагбаума, где скоплялись повозки и ревела скотина, чувствовалось какое-то особенное, ласковое веяние: станционные домики и клумбы приводили на память городскую окраину в майские вечера, когда девушки гуляют по бульвару и откуда-то тянет запахом сена. И даже раздетые и разутые батраки из Россотто под впечатлением проносящихся поездов толковали о пиве и о велосипедных гонках.
Вечером после сенокоса мы пили не пиво, а вино. Отец сказал нам: «Приходите засветло» — и, накинув на плечи пиджак, стал подниматься вверх по тропинке. На станции царило какое-то праздничное оживление, и Оресту пришлось извиняться за то, что он задержался там дольше обычного. Из погребов Россотто достали бутылку, потом другую. От этого вина все больше пересыхало в горле. Мы трое пили его под навесом, выходившим в луга. Я не понимал, то ли от воздуха такая сладость в вине, то ли от вина — в воздухе. Казалось, я пью аромат сена.
— Это фрагола[19],— сказал Орест. — Ее привезли нам мои двоюродные братья из Момбелло.
— Ну и дураки мы, — говорил Пьеретто, — днем и ночью ломаем себе голову, в чем секрет деревни, а этот секрет у нас здесь, внутри.
Потом мы задумались, почему это в Турине мы любили захаживать в остерию, а с тех пор, как были в деревне, ни разу по-настоящему не выпили.
— Для этого нужно идти куда-нибудь вечером, — сказал я, — не можем же мы пьянствовать в твоем доме.
— Зато теперь пей сколько влезет, — говорит Орест, — здесь нам никто не помешает.
Зашел разговор о лошадях. В Россотто была двуколка, как раз на троих, и Орест сказал, что ее в любое время можно заложить.
— Поедем к моим двоюродным братьям в Момбелло, — предложил он. — Мне хочется их повидать. Они парни что надо. Рано утром уедем, а вечером вернемся.
— Тогда мы останемся без купания, — проговорил я. — Сегодня утром я был от этого сам не свой.
— Ну и наплевать, — промычал Пьеретто. — Мне опротивело видеть тебя голым.
— Тем хуже для тебя, — сказал я.
— Но ты же урод уродом! — крикнул Пьеретто. — Только пьяный я смогу и дальше переносить это зрелище.
Орест налил нам опять.
— Вот уж это невозможно, — бросил я. — Нельзя быть голыми и пьянствовать.
— Почему нельзя? — спросил Орест.
— И нельзя спать с женщиной в лесу. В настоящем лесу. Любовь и выпивка требуют такой обстановки, в которой живут цивилизованные люди. Однажды я катался на лодке…
— Ничего ты не понимаешь, — перебил меня Пьеретто.
— Ну, ты катался на лодке… — сказал Орест.
— С одной девушкой, и она не кобенилась. Мы бы с ней поладили. Но я не смог. Сам не смог. Мне казалось, что я кого-то или что-то оскорбил бы.
— Это потому, что ты не знаешь женщин, — сказал Пьеретто.
— Но ведь ты же раздеваешься догола на болоте? — сказал Орест.
Я признался, что делаю это с замиранием сердца.
— Мне кажется, что я совершаю грех, — сказал я. — Может, потому-то это и приятно.
Орест, улыбаясь, кивнул. Я понял, что мы пьяны.
— Недаром, — добавил я, — такие вещи делают тайком.
Пьеретто сказал, что тайком делают много таких вещей, в которых нет ничего греховного. Это просто вопрос обычая и хороших манер. Грешно только не понимать, что ты делаешь.
— Возьми Ореста, — сказал он. — Он каждый день тайком ходит к своей девушке. Это в двух шагах отсюда. Они не делают ничего непристойного. Сидят в саду, разговаривают, может быть, держатся за руки. Она его спрашивает, когда он получит диплом и станет самостоятельным. Он отвечает, что ему еще год учиться, потом отбывать военную службу, потом найти место коммунального врача — выходит, через три года, так ведь? — и виляет хвостом, и целует ей косу…
Орест, пунцовый от смущения, тряхнул головой и потянулся за бутылкой.
— И ты считаешь, что это грех? — сказал Пьеретто. — Эта сценка, это жениховство, по-твоему, грех? Но Орест мог бы нам довериться и рассказать о ней. Настоящие друзья так не поступают. Скажи же нам что-нибудь, Орест. Скажи хотя бы, как ее зовут.
Орест, красный как рак, улыбаясь, сказал:
— Как-нибудь в другой раз. Сегодня лучше выпьем.
XIII
Но я уже все знал от Дины. Как-то раз я застал ее на балконе, где она чинно сидела на табуретке и шила.
— Значит, ты скоро выходишь замуж, — сказал я.
— Сперва ваш черед, — в тон мне ответила она, — вы же молодой человек.
— Молодым людям спешить некуда, — сказал я. — Посмотри на Ореста, он об этом и не думает.
Последовала шутливая перепалка, и Дина, наслаждаясь моим изумлением, выложила мне все, что знала. Понизив голос и лукаво поблескивая глазами, она сказала, что Орест ухаживает за Чинтой; что домашние Чинты об этом знают, но здесь, у них, — никто; что Чинта дочь путевого обходчика и работает у портнихи; что она ловкая, умелая — сама шьет себе платья и ездит на велосипеде. Дина даже знала, что Чинта не пара Оресту — ее отец сам мотыжил свой виноградник — и поэтому в селении Оресту приходится делать вид, что между ними нет ничего серьезного.
— Она хорошенькая? — спросил я. — Тебе она нравится?
Дина пожала плечами.
— Мне-то что. Оресту жениться, пусть он и смотрит.
И в день сенокоса не кто другой, как Дина, заметила, что мы выпили.
— Сегодня вечером мы говорили с Орестом о Чинте, — шепнул я ей, когда мы сидели на ступеньках крылечка при свете молодой луны. А она, уставившись на меня широко раскрытыми глазами:
— Вы распили бутылку? И небось не одну?
— Откуда ты знаешь?
— За ужином вы все время прикрывали рукой стакан.
Я спрашивал себя, что за женщина выйдет из маленькой Дины. Смотрел на старух, на Джустину и других, на мать Ореста, сравнивал их с девушками из селения, которых можно было видеть на полевых работах, — черноволосыми, крепконогими, коренастыми и сочными. Это ветер, холм, густая кровь делали их такими ядреными и налитыми. Подчас, когда я пил или ел — суп, мясо, перец, хлеб, — я спрашивал себя, не стал ли бы и я таким же от этой грубой и обильной пищи, от земных соков, которыми здесь был напоен даже ветер. А вот Дина была беленькая, миниатюрная, тоненькая, с осиной талией. «Должно быть, и Чинта, думал я, хрупкая и стройная как лоза. Наверное, она ест только хлеб и персики».
Разразилась гроза, и проливной дождь, к счастью без града, исхлестал поля и размыл дороги. Это случилось в то утро, когда мы собирались уехать на двуколке. Мы провели его в доме, переходя от одного окна к другому, среди женщин и девочек, которые шарахались и визжали при вспышках молнии. Отец Ореста сразу надел сапоги и вышел. На кухне потрескивал хворост в печи, и трепещущие красноватые отсветы падали на гирлянды из цветной бумаги, медную утварь, изображения божьей матери и оливковую ветвь, висевшие на стене. От разделанного кролика на окровавленной доске для резки мяса пахло базиликом и чесноком. Дрожали стекла. Кто-то кричал сверху, чтобы закрыли окна. «А Джустины-то нет дома!» — ужасались на лестнице. «Ничего, — услышал я голос матери Ореста, — уж у нее-то всегда есть где схорониться».
Наступил момент какой-то странной уединенности, чуть ли не покоя и тишины во время потопа. Я постоял под лестницей, куда через слуховое окно летели брызги дождя. Слышно было, как падает и ревет плотная масса воды. Я представлял себе затопленные и дымящиеся поля, бурлящее болото, обнажившиеся корни и дождевые потоки, врывающиеся в самые сокровенные уголки земли.