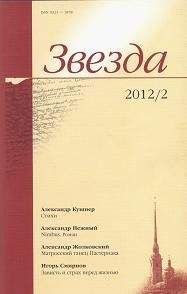Благополучно перебравшись на противоположную сторону, он перевел дыхание. На мостовой где-то на его пути оказалась довольно глубокая лужа, и в левом башмаке теперь ощущалась неприятная сырость. Промок. Чучело в старых башмаках. На Тверской площади перстом в мрачное небо торчала каланча, поверху которой, на площадке с перильцами, кружил, оглядывая окрестности, пожарный. Федор Петрович свернул налево и почти сразу же, мимо гостиницы «Дрезден», направо, в Космодамианский переулок. У подъезда гостиницы под длинным козырьком на двух литых чугунных ножках монументом стоял швейцар с седыми пушистыми бакенбардами, в фуражке и длинной синей ливрее с золотыми пуговицами. При виде Гааза он расплылся в улыбке, снял фуражку и крикнул: «Федор Петрович! Благодетель! Куды ж под дождем?» Повернув голову, Гааз не без труда признал в нем одного из пациентов Полицейской больницы. От какой он лечил его болезни? Забыл. Habitus aegroti[34] был, кажется, весьма печален, чего, слава богу, не скажешь сейчас, глядя на его цветущий вид и золотые пуговицы. Добрый старик. Чувство признательности весьма свойственно русскому народу — может быть, еще и потому, что судьбой ему было отмеряно так мало добра. «Спешу!» — на ходу отвечал Гааз, и в самом деле, сколько мог, прибавлял шаг — в основном из-за дождя, взявшегося куда усердней поливать прохожих. Однако возле Космодамианского храма он остановился. На его ступенях сидела старуха в лохмотьях, вытянув перед собой сложенную ковшиком грязную морщинистую ладонь. «Подай, Христа ради», — шепнула она, взглядывая на него из под низко повязанного платка выцветшими светлыми скорбными глазами. Его сердце сжалось. «Ах, голубушка! — воскликнул он, кладя ей в ладонь серебряную монету. — Что с тобой… — Федор Петрович хотел употребить хорошее русское слово «стряслось», но вместо него сам того не желая произнес как-то совсем по-немецки: — получилось?» — «Детки прогнали. На кой им старая», — как бы винясь, отвечала она, и Федор Петрович, согнувшись, быстро-быстро зашагал дальше. Мир положительно приближается к своему концу, когда дети перестают исполнять пятую заповедь. Ах, mein Gott, несколько погодя, укорил он себя, отчего не сказал, чтобы шла в Мало-Казенный, в больницу? Там можно было доставить ей небольшое облегчение, иначе говоря, привал на оставшемся коротком пути. Оглянувшись, он сквозь жемчужную дымку дождя различил на ступеньках храма неподвижную согбенную фигуру и двинулся было назад. Затем, однако, в голову ему закралась тревожная мысль о чиновниках, имеющих обыкновение исчезать после обеда, и он с неспокойным сердцем развернулся и пересек Большую Дмитровку, по которой, убегая от дождя, спешили редкие прохожие. В Столешникове он миновал дом Юргенсона с большим нотным магазином в первом этаже и вошел в подъезд следующего двухэтажного каменного дома, где располагалась канцелярия обер-полицмейстера. Там, поднявшись по немытой не иначе как со времен московского пожара лестнице во второй этаж, он отворил дверь и оказался в просторной, с низким потолком и мутными окнами комнате, уставленной шкафами с папками серого цвета. Кроме шкафов в глубине комнаты стояли четыре стола, за которыми друг против друга попарно сидели младшие чиновники разного возраста — от желторотых коллежских регистраторов с бойкими физиономиями до прибитых жизнью коллежских асессоров, мучительно размышляющих, как прокормить семейство на сто тридцать пять рублей серебром. Все усердно скрипели перьями; однако при появлении Федора Петровича, как по команде, повернулись к нему и восемь пар глаз с той или иной степенью интереса оглядели его с головы до ног. Один юный чиновник, пухлых и румяных щек которого вряд ли касалась бритва, шепнулсвоему визави, уже обзаведшемуся замечательными усиками и томным выражением черных бархатных глаз: «Сбежал из кунсткамеры». — «Всего скорее, мой друг, из печального дома в Преображенской части», — меланхолически ответил тот. Непосредственно же возле дверей, за пятым столом, сидел за раскрытыми сразу тремя томами коллежский асессор, белокурый, приятной наружности молодой человек, в свои годы уже шагнувший на восьмую ступень табели о рангах и рассчитывающий при должном усердии на дальнейшее восхождение, быть может, почти на самую вершину, к тайному или даже действительному тайному советнику. Федор Петрович несколько времени молча стоял возле него. Белокурый молодой человек, наморщив гладкий лоб, выписывал что-то из одного тома, сверялся со вторым и листал третий. Федор Петрович деликатно откашлялся. Ответа не последовало.
— Видите ли… — более решительно приступил Гааз, но был прерван самым строгим образом.
— Извольте подождать, милостивый государь. Я занят.
Федор Петрович переминался с ноги на ногу, ощущая на себе насмешливые взгляды чиновников.
— Видите ли, — снова начал он, — я состою членом попечительского о тюрьмах комитета…
Молодой человек еще сильнее наморщил лоб и поднял недовольный взгляд ясных синих глаз на докучливого посетителя.
— И что? — кратко и внушительно осведомился он.
Федор Петрович глубоко вздохнул и мысленно призвал в помощь святого Франциска Сальского, слово которого, как известно, пробуждало самые окаменелые сердца, между тем как обладатель столь чистого взора вряд ли успел обзавестись вполне бесчувственной душой.
— В пересыльном замке на Воробьевых горах, — терпеливо разъяснял он, — содержится в ожидании этапа Гаврилов Сергей, девятнадцати лет, московского университета студент, приговорен к каторге за убийство…
При этих словах ничто не отразилось в чистых синих глазах, но из глубины комнаты скрипучий голос, принадлежавший плешивому коллежскому асессору, явственно промолвил, что из молодых, да ранний.
— Я попросил бы вас воздержаться, Андрей Сергеевич, — строго отнесся белокурый коллежский асессор к коллежскому асессору плешивому.
— Андрей Сергеич, воздержитесь! — на мотив песни Торопки из «Аскольдовой могилы» едва слышно пропел чиновник совсем юный.
— Андрей Сергеич, умоляю! — тихим басом подхватил его сосед по столу.
— Господа, господа! — Белокурый молодой человек возвысил голос. — Вы не в клубе.
— Я совершенно уверен в его невиновности, — продолжил Федор Петрович, — и полагаю, что все с ним произошедшее есть результат трагической для него ошибки…
— Приговор есть приговор, — сухо отозвался погруженный в дела его собеседник, чуть замаранными чернилами пальцами переворачивая лист одного из томов.
— Есть известные, должно быть, вам трудности с обжалованием конфирмованного приговора для лиц, препровождаемых по этапу в определенную местность. Впрочем, вот его формуляр, — и Гааз положил на стол собственноручно составленную им выписку из дела Гаврилова, — и моя к вам покорнейшая просьба… Не сочтите за труд справиться, получен ли ответ на прошение матери Гаврилова на высочайшее имя… в благоприятном смысле, в неопределенном и даже в отрицательном … Надобно знать, ибо нет ничего хуже напрасных ожиданий.
— Позвольте! А когда именно подано было прошение? Не сказано, — запачканный чернилами палец указал на выписку. — Каким судом вынесен был окончательный приговор? Не сказано. Имеется ли на сей счет мнение губернского прокурора? Не сказано.
И еще два или даже три раза палец белокурого молодого человека отметил допущенные погрешности, после чего в нужных сведениях Федору Петровичу было наотрез отказано.
— И что… — потерянно осведомился Гааз, — … никак?
Или ему померещилось, или на самом деле в синих ясных глазах промелькнуло некое туманное облачко, угрызение совести, сострадание, готовность захлопнуть три тома скучнейших, по всей видимости, бумаг и взяться отыскивать уже, может быть, слетевшее с небес империи почти божественное слово, необыкновенным и счастливым образом меняющее судьбу бедного Гаврилова. Однако по прошествии ничтожно малого времени облачко растаяло, совести до поры велено было помалкивать, сострадание поникло, а белокурая голова качнулась сначала налево, затем направо.
— Никак.
— Мундир… — с горечью произнес Федор Петрович.
— Что-с?!
Ах, какие слова готовы были сорваться с губ! Какой выстраданный урок был в них заключен! Каким ледяным целебным душем могли они пролиться на белокурую голову! Мундир калечит душу — так хотел было сказать молодому коллежскому асессору доктор Гааз, но благоразумная сила замкнула ему уста, и он открыл их всего лишь для того, чтобы спросить, где следует получить недостающие сведения. В особом отделе Хамовнической части, услышал он. Одна нога здесь, другая там, совсем по-русски, бодро ответил Федор Петрович и осведомился, найдет ли он здесь кого-нибудь по своем возвращении. Белокурому чиновнику вопрос показался обидным. Было бы совершенно против понимания ответственности государственной службы, если бы чиновники руководились более расписанием, чем чувством долга.