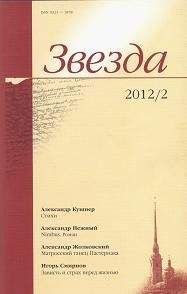— Скоро ли?
— Да вот, — со злостью пробурчал Егор, — море-окиян переплывем ежели…
Не ослабевая, лил дождь, часто и сильно стучал по верху пролетки и кожаному фартуку, укрывавшему Федора Петровича и превращавшему заднее сиденье в подобие сумрачной сырой пещеры. Лошадки осторожно вытянули их на Пречистенскую площадь, в самом деле похожую сейчас если не на море, то на огромное озеро, на берегу которого слева высилась белая громада храма Христа Спасителя.
— Ну, Осподи-Сусе, помогай! — чуть тряхнул вожжами Егор. — Полегше, милыя, полегше…
Пролетку, будто в бурю, качало из стороны в сторону, и вместе с ней качало и Федора Петровича. Он сдвинулся в угол, плотнее прижался к спинке сиденья и, дождавшись, когда началась Остоженка с ее длинным плавным подъемом, снова задремал той легкой чуткой дремой, в которой мысль легко соскальзывает в сон, а сон вдруг оборачивается мыслью. При этом Федор Петрович совершенно безотчетно изредка выглядывал из своего укрытия, смотрел невидящим взором и с облегчением снова откидывался назад, в скором времени с немалым удивлением обнаруживая, что он все-таки видел, как миновали Обыденский переулок с церковью Ильи Пророка, золотая маковка которой проблескивала сквозь пелену дождя, Хилков переулок с водной лечебницей, чью роскошь и дороговизну Гааз решительно не одобрял, о чем много лет назад говорил ее владельцу господину Л. и о чем под стук колес шепнул ему и сейчас, прямо глядя в его лицо с большим насмешливым ртом и длинным и тоже насмешливым носом: «Sehr geehrter Christen, wirklich für dich die Medizin — nur die Weise, das Kapital zu zimmern?»[41] А в ответ, словно наяву, услышал его резкий голос: «Sehr geehrter Fridrich, zum Glück sind noch nicht alle Deutschen verrückt geworden»[42]. — «Понимаешь ли ты, шептал Гааз, что для человека слишком мало обладать незаурядными способностями и умением устраивать… как это… die Handel… коммерция… Наша беда, всего человечества беда, — в излишнем доверии к разуму и в нежелании руководствоваться подсказками сердца. Человечеству вообще не мешало бы несколько сойти с ума, но не в свирепой склонности чуть что хвататься за копья, дабы собственноручно пронзить ненавистного врага, или за пушки, с огнем и громом извергающие смертоубийственные бомбы, и не в беспощадной жестокости людей, которой не встретишь даже в сообществе бенгальских тигров, а…» — «Ну-ну, — с усмешкой сказал господин Л. — И в чем же твоя панацея?» — «В любви», — отвечал Гааз, отчего-то чувствуя себя безмерно виноватым перед удалившимся в мир теней господином Л., а заодно перед всеми, кому он не смог, не сумел втолковать столь простую истину. Он успел заглянуть в светящиеся умом глаза господина Л. и признаться, что этот странный город с полупризрачным Кремлем, гробницами царей и грязью на улицах, этот немного, совсем немного, ein wenig[43], Запад и гораздо больше Восток, стал ему милее, чем Вена, где мы с тобой учились. Красавица Вена, не правда ли? А тут — нищета, Хитров рынок с его ужасными притонами и торгующими собой десятилетними девочками, заплеванные трактиры, убогие ночлежки… Но, милый Христиан, любовь к красоте проходит вместе с увяданием красоты или с изменением нашего представления о ней. Сострадание же только растет — а вместе с ним растет и вмещает в себя целый мир наша душа.
— Склады Провиянтския, Федор Петрович, — крикнул Егор. — Счас прибудем!
Гааз стряхнул с себя дрему.
— Ты, голубчик, должно быть, мокрый до нитки?
— Ровно мышь!
— Дома чай с медом… Лучшее средство.
— Ага! Лучшее… Как же! У нас другое лучшее, да вы за ее единый глоток со света сживете. — Егор расстроился. — А то бы как славно.
Миновали нарядную бело-красно-зеленую церковь Николы в Хамовниках, лошадки побежали резвее, и через пару минут пролетка Федора Петровича въезжала под каланчу Хамовнической полицейской части.
4С неожиданной легкостью добыв необходимые сведения у пожилого майора с деревянным протезом вместо правой ноги, принесенной в жертву за обладание Варшавой, Гааз в прекрасном расположении духа пустился в обратный путь. Дождь не утихал, но теперь вопреки его усыпляющей барабанной дроби Федор Петрович был бодр и ясен. Через каких-нибудь полчаса он окажется в Столешникове и получит, будем надеяться, отрадные известия о судьбе бедного юноши, оказавшегося заложником несчастливых обстоятельств и равнодушия решавших его участь людей. Император, этот человек, казалось бы, высеченный из глыбы льда, — и он, без сомнения, был тронут прошением несчастной матери, у которой несправедливая рука отняла единственного сына.
Посреди этих согревающих душу мечтаний вдруг резко качнуло в одну сторону, потом в другую, страшным голосом закричал на лошадок Егор, и пролетка, кренясь чуть вперед и вправо, остановилась. Федор Петрович приподнялся, выглянул и увидел, что правое переднее колесо соскочило с оси и, укатившись, лежит неподалеку в глубокой луже.
— Mein Gott! — воскликнул он. — Боже мой! Что будем предпринимать? А время, время… Ganz gibt es keine Zeit![44]
— А сколь раз было говорено, — вне себя орал Егор, извлекая из лужи колесо, — штоб замест етой развалины купить новую! Денег все нет! А всякой голи рубли без счета совать они есть! Чай, говорит, дорог… И пролетка для ево новая не по карману. А глянь, глянь, — тыкал он в колесо, — самая сердцевинка от ступицы вылетела…
И он чрезвычайно грубым словом указывал, куда именно улетела чертова сердцевина от треклятой ступицы.
Федор Петрович вылез из пролетки, потоптался возле Егора, соображавшего, как бы поставить колесо, и, виновато пробормотав, что непременно подумает о новом экипаже, пустился что было сил по бульвару, к недалекой отсюда Тверской. Хляби небесные по-прежнему изливали на землю потоки воды. Доктор шел по щиколотку в сплошной луже. Вымокла на фраке красная лента Святого Владимира, ставшая почти черной; сам фрак можно было выжимать, как после стирки; панталоны, башмаки — весь Федор Петрович с головы до ног напоминал человека, которого только что извлекли из пруда. Бежали редкие прохожие, кто в плаще, кто под громадным зонтом; по Тверской, поднимая волны, катили экипажи, и мокрые кучера кричали злобными голосами: «Па-а-ди!» На углу Тверской и Космодамианского, не угадав под водой глубокой выбоины, он оступился и едва не упал, но чудом случившийся рядом простолюдин в зимнем треухе успел его подхватить. «Спасибо, голубчик», — слабо промолвил Федор Петрович и пустился дальше. С него ручьями текла вода, когда с бешено колотящимся сердцем, тяжко дыша, он поднялся на второй этаж канцелярии обер-полицмейстера. Опоздал! Наверняка опоздал! Везде опоздал! И белокурый чиновник, должно быть, оставил свой пост, убедившись, что бумаги обрели правильное движение и в нужные сроки перед государем предстанет точное отображение жизни его подданных, и Филарет открыл заседание тюремного комитета, шепотом осведомившись, отчего пустует место члена комитета доктора Гааза, и господин Розенкирх с язвительной улыбкой обронит, что господин Гааз решил, очевидно, устранить сам себя из деятельности комитета, и господин Золотников ему поддакнет, а милейший и добрейший Дмитрий Александрович Ровинский бросится им возражать и… ах, как нехорошо! Он отряхнулся, будто вылезшая из воды утка, открыл дверь и вошел.
Белокурый молодой человек в одиночестве по-прежнему корпел над своими тремя томами. Он поднял голову и затуманенными усталостью синими глазами с покрасневшими веками взглянул на Федора Петровича, возле которого на полу мало-помалу натекла приличная лужица.
— Вы?! — пролепетал он в изумлении. — В такой дождь?
— Я принес необходимые сведения, — радостно объявил Гааз. — Не откажите теперь исполнить мою просьбу.
Быть может, Федору Петровичу показалось, но, с другой стороны, отчего бы и нет? Во всяком случае, на бледных щеках молодого человека проступил румянец, а в глазах промелькнуло виноватое выражение.
— Да, да, — торопливо проговорил он. — Разумеется. Вас интересует…
— Гаврилов Сергей, — подсказал Федор Петрович. — В пересыльном замке на Воробьевых… Вот формуляр с дополнениями, кои вы затребовали.
— Ах, да, да… — еще больше краснея, говорил коллежский асессор и глядел куда-то в сторону, мимо Федора Петровича. — В такой дождь… Что же вы… Ах, формуляр… — Он взял бумагу, щурясь, уставился в нее и тотчас отложил. — Гаврилов. Пересыльный замок. Минутку, не более.
По скрипучим половицам он подошел к одному из шкафов, раскрыл створки и вытащил папку в обложках серого грубого картона.
— Вот-с, милостивый государь… Прошение на высочайшее имя, поданное вдовой и почетной гражданкой Коломны Гавриловой Анной Андреевной. Резолюция канцелярии его императорского высочества: дело передать на рассмотрение в Правительствующий сенат.