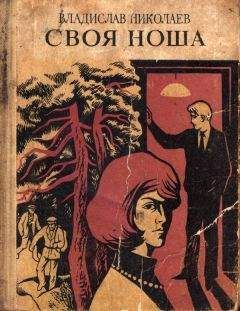Летом на ее обочинах кудрявились, будто вязаные, белые и малиновые шапочки клевера. Среди них тут и там рдела крупная сочная земляника. Перед самым лесом куртинами стоял шиповник, благоухал алым цветом.
Где-то в этом месте сворачивали к горе. Шагов через двадцать натыкались на родничок, обложенный почерневшим деревянным срубом. В траве валялся свернутый фунтиком и защепленный ивовым прутиком берестяной ковшичек. Однако Маша им никогда не пользовалась. Встав на колени и опершись руками о сруб, пила прямо из родника. Так вода казалась вкуснее, колючими шариками она катилась просто по горлу, и в желудке сразу же становилось холодно-холодно. Близко перед глазами лежало выгнутое чашей дно. Вздымая песок и труху, тут и там буравили его упругие струи. Маша замечала, что каждый раз ключи били в другом месте, и это было чудесно и странно.
Застыл родник или нет в такую стужу? Маша приостановилась на секунду, потом решительно свернула с дороги и, по пояс утопая в снегу, побрела к горе. Удивительное дело! Не замерз родник! И не погребло его под снегом! Мрачно глядит дымящимся черным оком в серое низкое небо, и, как и летом, дно его буравят, шевеля песок и труху, витые ключи. И оттого, что не застыл родник, не укрылся белым пухом, как все вокруг, чудилось в нем что-то сверхъестественное, таинственное и жуткое. Не черти ли уж там живут? Маша круто поворотилась и, падая на каждом шагу, побежала к дороге.
… Вспомнилось Маше, как, испив тут живой родниковой водицы, дед мгновенно преображался: светлел лицом, на ногу делался прытче и тотчас заводил какую-нибудь старинную, чаще всего солдатскую песню. Будто не в воде обмочил усы, а в сладкой медовухе.
Диковинный дед! Не соскучишься с ним! На ногах лапоточки собственноручной работы, на плечах длинная холщовая рубаха распояской, из-под которой выглядывают совершенно немыслимые штаны, сшитые из матрасника в сине-красную полоску. Артиллерийская фуражка с красным околышем заломлена на затылок. Идет он меж деревьев — нос крючком, борода клочком, — идет, приплясывая и притоптывая, и выкрикивает звонким петушиным тенором:
Соловей, соловей — пта-ше-чка!
Канареечка жалобно поет…
Липовый лес начинается с середины склона и тянется до самой вершины. Кора на деревьях растрескавшаяся, черная, как бы обуглившаяся, листва густая, сумрачная, слегка осветленная желтыми шишечками, оперенными такими же желтыми и узкими листочками-перышками.
Весной дед свалил тут десятка полтора не молодых и не старых лип, очистил от сучьев. Теперь с них надо снять железным крючком-кодочем шкуру, а от той в свою очередь отделить изнутри лыко. День для этой операции выбирался теплый, сырой и ветреный.
Дед говорил:
— Луб ветром откачивает, дождем отмачивает, теплом отпаривает.
Лыко нарезалось лентами и увязывалось в пучок-ношу. Для Маши делался пучок поменьше — полуноша.
Ближе к вечеру, взвалив на спину поклажу, спускались они с горы вниз, старый и малый. Дед опять песни играл, приплясывал, вскидывая над травой светлыми лапоточками, а внучка, глядя на него, заливалась на весь лес. И увесистая ноша была им не в тягость.
Уже завечерело и в домах зажглись огни, когда Маша прибежала, наконец, в свою деревню. В избах топились печи. Дымные столбы стояли до звезд. От хлевов напахивало горячим навозом. И Машу радовал этот запах, как радовали расчищенные дорожки перед воротами, раструшенное по обочинам сено и взблескивающие под луной санные следы — жива, значит, деревня, жива! А в Кокорах давно уже ничем не пахнет — ни хлебом, ни навозом, и дорожки перед воротами не разгребаются.
Вот и отчий дом — изукрашенный резьбой бревенчатый терем о трех окнах, с глухим крытым двором. Во дворе — ни снежинки, темно и холодно. Холоднее даже, чем под открытым небом. Крашеные половицы после мытья горячей водой остекленели, и валенки скользят по ним, как на катке! Разогнавшись, едва перед крылечком устояла на ногах.
Маша была уверена, что застанет полную избу гостей, однако, кроме деда и бабки, никого там не обнаружила. При ее появлении бабка на секунду высунулась из кухни и тотчас снова скрылась за дерюжной занавеской. А дед, завидев любимую внучку, радостно затряс сивой бороденкой. Он сидел на низеньком чурбаке посреди прихожей и плел лапти, вид у него был такой, будто в лес по лыко собрался: в полосатых портках, в рубахе распояской, глаза под лохматыми бровями хмельные, веселые. Песни только не хватало. Но Маша уже догадалась: будет сегодня и песня.
В левой руке держал дед деревянную колодку с тупоносым лаптем без пятки, в правой — железную ковырялку, которой протаскивал сквозь петли на недоделанном лапте лыковые строки. С десяток лишних строк валялось на полу. По всей избе хорошо, по-банному пахло свежим мочалом.
Не раздеваясь, проскочила Маша мимо деда, толкнула створчатую дверь в горницу, но и там никого. Все предметы находились на своих местах: стол под кружевной скатертью, кровать с никелированными шишечками, фотографии на стенах, полосатые половики на полу.
— Опоздала, внученька, — виновато проговорил дед.
Заглянула Маша и в кухню. Бабка стояла к ней спиной и, согнувшись над лежанкой, что-то разглядывала при скудном свете лампадки, висевшей на медной цепочке в углу перед иконами. Бабкино просторное черное платье походило на монашеское одеяние. Бабка обернулась на шорох и приложила палец к ввалившемуся рту. И тут только Маша заметила, что на лежанке, прямо на лохматых овчинах, спит голенький ребенок — пятимесячный племянник Санюшка. Маша подивилась на его несоразмерно большой живот и шепотом спросила:
— А где родители?
Бабка замахала на внучку руками, выпроваживая ее из кухни, следом вышла сама и сердито прошамкала:
— Ой, вошподи Ишуше Хриште! Чо ты ек-то зашкакиваешь в отеште? Остудишь ищо ребенка. Где шпрашиваешь родители? — продолжала бабка. — Увезли, мила дочь. Увезли. Приехал из района на кошовке безрукий начальник и увез Лександра. Катерина за ним увязалась… Безрукий безногого увез. Снова председателем ставить собираются. Знать, не дело пытают, а от дела лытают. Хоть бы дали ноге-то зажить как следует.
О матери Маша не спрашивала. Мать денно и нощно торчала на ферме: начались отелы, надо было раздаивать коров и глядеть в оба, чтобы не заморозить сырых телят в продувных коровниках. Да и с кормами было плохо — из-под снега выгребали.
— Баня иштоплена, — сообщила старуха. — Мать белье припашла, на кровати где-то лежит.
В самом деле, рядом с горой подушек под кружевной накидкой лежало завернутое в полотенце чистое белье. Маша сунула его под мышку и убежала в баню. Воротилась через час, красная, распаренная, с побелевшим от банного изнеможения носом и капельками пота на верхней губе, встала в горнице перед зеркалом и, клоня голову то вправо, то влево, долго расчесывала свои густющие волосы.
На столе стояла глиняная кружка с молоком, накрытая картофельной шаньгой, но от усталости даже аппетит пропал, и Маша без ужина забралась в постель. Господи, как хорошо! Тело в сладкой неге, а на душе — покой и умиротворение. И не чувствует себя Маша больше учительницей, чувствует маленькой девочкой, школьницей, которой завтра не надо идти на уроки — выходной, и она может спать сколько захочет.
В прихожей дед все еще шуршит сухими лыками. За работой он любит порассуждать сам с собой, вот и теперь завел нешутейный разговор:
— Э-хе-хе! Видно, Расея все-таки поддасся проклятой немчуре. Али нет? Как ты там, бабка, полагаешь? Конечно, не поддасся! Мыслимо ли, чтобы кто-нибудь мог победить Расею? Да еще немчура, ерманец — сколько мы их били? Что молчишь, глухая тетеря?
Подождав некоторое время ответа, дед вдруг вскрикнул петушком и завел одну из своих любимых песен:
Эх, пишет, пишет чарь ерманский,
Пишет русскому чарю:
— А раззорю-у я усю Расею,
А сам…
Довести песню до конца ему не суждено: в кухне за занавеской раздается детский плач, и тотчас вылетает оттуда с голопузым внуком на руках разъяренная бабка, вылетает, топает сухонькой ножкой и, раскрыв черный пустой рот, кричит на старика:
— Добился-таки своего! Разбудил Санюшку! Ах ты, старый сыч! Ворона ощипанная! Что ты там наболтал, старое ботало? Что нас ерманец спобедит? Дуля ему под нос, ерманцу! А тебя, изменщик, за неподобные речи надо бы за вороток да на холодок. Вот там и голоси: пишет, пишет чарь ерманский…
Покуда бабка бушует в прихожей, дед сидит на чурбаке без движения, испуганно втянув голову в плечи, но, как только с орущим внуком на руках она убегает обратно в кухню, он проворно вскакивает на ноги и, подобно разъяренному громовержцу, швыряет в занавеску все, что попадет под руку: недоплетенный лапоть, деревянную колодку, железную ковырялку. Схватил было с полу и чурбак, поднял над головой, но вовремя спохватился, что такими предметами не балуются, — поставил на место.