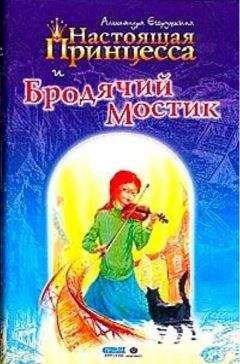– Ха! Ты, может быть, и старикашка, – она сдула с чемодана пыль. – А я нет. Я уезжаю в Америку.
– Осторожней, все летит на меня.
– Ха! – еще раз сказала Люба и опустилась со стула на пол. – Смотри какой чемодан. Просто красавец! Что ты говорил там насчет сознания?
– Ничего. – Я постарался стряхнуть с себя чемоданную пыль, но в итоге только ее размазал.
– Иди в ванную комнату. Сейчас я тебя отмою. Ты никогда ничего не умел делать сам. И еще гордишься при этом своим якобы твердым сознанием.
– Я ничем не горжусь.
– Вот и правильно. Из всех евреев с нетвердым сознанием твое сознание – самое ужасное. У тебя оно мягче мягкого места.
– Спасибо, но вообще-то я не еврей.
– Только не надо тут мне обижаться. Говорю тебе – иди в ванную комнату.
Оттирая влажной щеткой пыль с моих плеч, она продолжала отчитывать меня, как будто я на самом деле был в чем-то перед ней виноват.
– Люди с твердым сознанием не идут по своей воле работать в дурдом. Не идут, Койфман. Они находят себе другое занятие.
– Боже мой, Люба, это было тридцать лет назад. И потом – а как же тогда доктор Головачев? Он там тоже, между прочим, работал по своей воле.
– Кто? – она даже не остановилась, продолжая решительными движениями чистить мой пуловер.
– Доктор Головачев. Он лечил тебя, а потом ходил к нам домой, чтобы… чтобы… – я вдруг стал запинаться. – Ты знаешь, мне кажется, я не знаю, зачем он к нам приходил…
– Вот видишь, – сказала Люба. – Подними руки… Ты даже сам не знаешь, кто такой этот доктор, и хочешь, чтобы я помнила его фамилию. У меня, что, по-твоему, должна быть резиновая память? Повернись… Не стой как Лотова жена… Увидел привидение своей бабушки?
Но я видел отнюдь не бабушку. Если бы это была она, я бы, скорее всего, просто обрадовался. Увидеть ее наяву, а не в фотоальбоме, да еще через столько лет после того, как у меня навсегда исчезла такая возможность, было бы настоящим подарком. К тому же мир теней мог испугать меня уже не намного больше, чем кусок колышущейся марлевой ткани, который натягивают в театре перед сценой встречи Гамлета с духом его отца. И ставят по синему фонарю в обеих кулисах.
Нет, тут было совсем другое.
Я видел, что Люба не лжет. Она действительно не помнила доктора Головачева. Не помнила о нем ничего. Этот человек выпал из ее жизни, из ее сердца, из ее головы с такой стопроцентной надежностью, как будто его там вообще никогда не было, как будто это не он поселился там когда-то в своем дурацком желтом плаще и как будто воспоминание о нем представляло для Любы теперь не больше важности, чем пыль с чемодана ее отца, которую она сначала на меня преспокойно сдула, а теперь с ничуть не меньшим спокойствием отряхивала с моих плеч.
– Ты можешь хоть чуть-чуть повернуться? Или это я должна вертеться вокруг тебя?
Разумеется, я мог повернуться. Я мог сдвинуться влево, и я мог сдвинуться вправо. Я вообще мог начать вращаться как юла, или как бесноватый шаман, или даже как сверло буровой установки, но в этот момент до меня вдруг ясно дошло, что, быть может, именно эта склонность к повороту, к излишней и, как выясняется, не очень оправданной вертлявости, оказалась в моем случае роковой. Как и в случае с женой Лота. Похоже, мы с ней оба немного застряли в прошлом.
Слишком подвижные шейные позвонки. Что-то о них было в том замечательном учебнике 1954 года. Который, кстати, тоже давным-давно пора забыть.
Шею держать прямо и смотреть только вперед. Для этой цели профессор Илизаров из города Кургана изобрел специальные аппараты. Голова фиксируется в строго фронтальном режиме путем просверливания в ней дырочек, сквозь которые пропускаются сверкающие стальные спицы. Думать эти металлические прутики голове не мешают. Во всяком случае, так утверждают врачи. Попавший в это положение выглядит нелепо, но зато смотрит всегда вперед. Профессор Илизаров решительно сократил ему угол обзора. Все, что оказывается вне поля зрения, – неважно. Широкое стальное кольцо вокруг головы напоминает нимб. К «нимбу» прикручены гаечки. Христианская аллюзия не очевидна, но при достаточно свободном восприятии все-таки можно увидеть в этом сооружении цитату, скажем, на Фра Беато Анджелико или на Джотто. На их фресках нимбы тоже выглядят несколько механически. Светлый наивный лиризм раннего Ренессанса.
N.B. Интересно, бывает ли в голове сквозняк после того, как спицы из нее вынимают, а дырочки еще не совсем заросли?
Потому что никакого прошлого не существует. Фолкнер абсолютно прав. Но только не в том смысле, что твое прошлое всегда с тобой, а в том, что, выйдя из своего прошлого, не надо без конца оборачиваться. Просто погаси свет и выйди из комнаты. Освободи помещение. И не превращайся в соляной столп. Не оборачивайся. «Exegi monumentum» не актуально. Кому нужны белые памятники, если они не из мрамора? И, главное, ради чего? Какой-то Содом, какая-то Гоморра, какой-то Головачев.
– Алё! Ты еще здесь? – сказала Люба. – Я не очень мешаю? Если тебе интересно, то я закончила. Пыли на тебе больше нет.
– Спасибо, – сказал я и взял щетку, которую она мне протянула.
Моя физиономия в зеркале постепенно утрачивала характеристики соляной окаменелости.
– И, кстати, твоя криминальная невестка совершенно права, – долетел Любин голос уже из кухни. – Эта твоя одиссея в дурдоме вполне тянет на небольшой роман. Такой в стиле О’Генри. Хоть на что-то сгодились бы твои литературные замашки. Заработал бы денег, стал бы знаменит.
– О’Генри не писал романов, – сказал я, по-прежнему стоя перед зеркалом в ванной комнате.
– Ну, тогда кто-нибудь еще. Тебе лучше знать. Ты же литератор.
– Я ученый. Я только анализирую.
– И днем, и ночью кот ученый… – пропела она, мелькнув в дверном проеме у меня за спиной. – Ты будешь жареную картошку? У меня есть лук.
* * *
Я почти не лукавил, когда делал вид, что не обращаю внимания на слова Дины и Любы о возможности написать книгу. Тень, падающая от слова «почти», была при этом настолько узкой, что в ней мог укрыться всего один факт – делать вид мне все-таки приходилось.
Разумеется, я и сам много раз думал о такой книге, и неоднократно даже садился ее писать, уговаривая себя тем, что после двух диссертаций я все же кое-что смыслю в литературе. Но заканчивалось это мероприятие всегда одинаково. Настроение портилось больше чем на неделю, студенты становились глупее обычного, семейная жизнь превращалась в молчаливый кошмар, по телевизору показывали полную чушь, телефон звонил лишь для того, чтобы кто-то неприятный сообщил еще более неприятные новости, а в деканате непременно затевалась новая форма отчетности, требующая заполнения бесконечных и абсолютно лишенных смысла огромных таблиц.
Никакие персонажи сквозь ячейки этих таблиц проглядывать не хотели. Один из них, впрочем, время от времени посматривал на меня из зеркала. Ничего художественного обнаружить в нем не удалось. Именно тогда я несколько нервно сообщил своим третьекурсникам, что автор не должен писать о самом себе. Персональный опыт переживания ситуации не позволяет реализовать ее в эстетической плоскости. Художественная конструкция слишком хрупка и прозрачна, чтобы удержать реальное жизненное наполнение. Она существует не столько в сознании автора, сколько в воображении читателя, поэтому свой личный опыт автор должен держать при себе. Он обязан лишь создавать повод для поэтических грез, которые сами собой проносятся перед восхищенным внутренним взором его читателя. Но грезы эти автору не принадлежат. В этом и состоит мастерство.
«А как же Генри Миллер?» – сказал тогда кто-то из удивленных моим неожиданным пылом студентов.
Видимо, я все-таки слишком порывисто делал свое сообщение.
«А что с ним?» – Я пожал плечами, восстанавливая сбившееся после моего пламенного монолога дыхание.
«Ну, он ведь описывает свои собственные похождения в Париже».
«Кто это вам сказал?»
«Там так написано».
«А вы что, всегда верите тому, что написано? Быть может, он вообще из Америки не выезжал. Сидел в своем городишке и выдумывал из себя сексуального монстра. Сексуального, понимаете? Первая гласная фонема произносится как звук «е», а не «э». При очень мягком стартующем «с». Как в слове «сюсюкать». Слышите, насколько так ироничнее? Сексуального… Брэм Стокер, например, писал в Уитби на севере Англии, а не в Трансильвании. И вряд ли пил кровь. Вы отдаете себе отчет, каким образом работает мифология? Особенно когда речь идет о ее поэтической стороне».
Впрочем, тут я, видимо, все же увлекся. В студенческой аудитории очень важно настоять на своем. Об этом знает даже начинающий ассистент кафедры.
Так или иначе, книгу о своих похождениях в сумасшедшем доме я не написал, и разговаривать о ней мне ни с кем не хотелось. Ни с Диной, ни с Любой, ни тем более со студентами.
От всей той истории, случившейся со мной в 1962 году, у меня надолго остался глубокий интерес к проблемам безумия, реальности прошлого и быстротечности времени. Эти мотивы волновали меня до такой степени, что я, как тот писатель, который все же не может удержаться и тянет в свой текст фрагменты собственного интимного опыта, иногда тоже был не в силах сопротивляться искушению и начинал рассуждать об этих вещах прямо во время лекций. Оправдать себя мне в этих случаях было легко. Никто ведь не мог внятно мне объяснить – как это так происходит, что между шестьдесят вторым и девяносто вторым годом лежит ровно тридцать лет, сколько бы вы их ни пересчитывали, а промчались они как один день. Как щелчок пальцев.