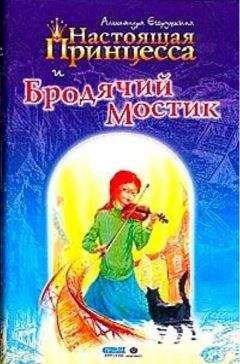И кто виноват в этой математической неразберихе?
«То есть возьмем, например, женщин, – говорил я, выходя из-за лекторской кафедры и становясь прямо перед первым рядом столов. – Одни жалеют, что лучшие годы, когда им было двадцать или двадцать пять, потратили на роды, на стирку, на запах мочи, а потом – раз, и уже тридцать семь. А другие мучаются, что вот уже тридцать семь, а лучшие годы прожиты впустую – карьера, тусовки, мужчины, – но вот детей заводить уже поздно. И штука в том, что и та и другая страдают ровно от одного и того же. Ни у одной из них не получилось остаться двадцатилетней… Такой, как вы… Поэтому постарайтесь не торопить время…»
«А у мужчин? – непременно интересовался кто-нибудь из этих довольных тем, что лекция вдруг прервалась, да еще по такому забавному поводу. – Как это бывает у мужчин?»
«Тут все еще проще, – отвечал я, совершенно ясно понимая их примитивную хитрость в ожидании конца пары, но не имея уже сил остановиться. – Сначала держишь ребенка над горшком и повторяешь без конца свое «А-а», пока он не покакает, а потом он вдруг вырастает и пишет в тетрадях те же буковки «а» с маленькими двоечками и троечками в правом верхнем углу и говорит, что это алгебра и что «не мешай, папа», и что «это вовсе не «ху» без буквы «и краткое», а символы «икс» и «игрек», и «ничего ты не понимаешь». А ты стоишь и думаешь – куда же подевался тот зеленый пластмассовый горшок? И ручки у него не было, потому что вы были молоды и целовались, и окно было открыто, и в него – солнце, и ты уронил этот горшок на пол, потому что дыхания не хватило, и руки сами собой разжались, и вообще ты забыл, что он у тебя в руке, и он упал и сломался, и твой ребенок проснулся в кровати за деревянной решеткой и закричал, и воробьи за окном стали чирикать еще громче. И не было никакой алгебры. Для тебя – уже, для твоего ребенка – еще. Такое время между двумя заходами на математику. Короткое и странное, как перемена в школе… Как мечта школьника об учебном дне, состоящем из одних перемен. Хотя бы один раз в неделю… Ну, или хотя бы раз в год… Что? – говорил я в ответ на их сдержанные, но все более многозначительные прикосновения к сумкам, портфелям и шуршащим пакетам. – Пара уже закончилась? Хорошо, можете идти. Все свободны… Не забудьте к семинару прочесть «Потерянный рай». Книг в библиотеке достаточно. Должно хватить на весь курс».
Они уходили счастливые оттого, что в конце лекции можно было не конспектировать, а я оставался и глядел в окно, испытывая смутное сожаление, поскольку все-таки проболтался, и в то же время злорадство, именно потому, что они не законспектировали мою болтовню, а, следовательно, остались не предупреждены. И значит, не одному мне в итоге маяться от всех этих фокусов, которые проделывает с нами время.
Но чаще я все же соскакивал на сумасшедших. Стоило только коснуться той сцены, когда Гамлет кладет свою голову на колени Офелии, – и безумие одного персонажа, подобно заразной болезни, перескакивает от этого прикосновения на другого, – как даже самый редкий гость на моих занятиях, который обычно усаживается с независимым видом на последнем ряду, знал, что лекция на этом закончена. Можно писать девушкам смешные записки, рисовать чертиков на крышке стола и подписывать под каждым из них мое имя.
А чье же еще? Несмотря на видимое отсутствие в аду чертей женского пола, кто-то все же сумел наставить этим беднягам рога.
Впрочем, инфернальность настольного творчества искупалась тем сосредоточенным молчанием, в которое погружался художник, слегка высунув от усердия кончик языка и позволяя мне без помех развивать мою любимую тему.
«Страна, откуда ни один не возвращался».
Поскольку с точки зрения туризма разница между смертью и безумием весьма незначительна. И в том, и в другом случае фирма гарантирует билет только в один конец. Путь обратно – на усмотрение самого туриста. Получится – будем рады видеть вас снова. От всего сердца. Поэтому путешественник, собирающийся в одну из этих «undiscovered countries», должен отнестись к сборам в дорогу со всей серьезностью и вниманием. Неизвестно, что может пригодиться в пути. Тем более – по прибытии на место. Поведение туземцев и завсегдатаев – вообще отдельный вопрос.
Как и поведение притихшей студенческой аудитории, которая вместо того, чтобы конспектировать, жевать бутерброды или шушукаться, сидит и пристально смотрит на разволновавшегося профессора. На то, как он уронил свои записи, нагнулся к ним, замер, что-то сказал, резко выпрямился, а теперь ходит от стены к стене, так и не подняв разлетевшиеся по полу листочки, смешно размахивает руками и говорит весьма странные вещи.
«Ницше считал, что занятия искусством надо объявить уголовно наказуемым преступлением. Художников, уличенных в написании картин; композиторов, писателей, скульпторов он предлагал немедленно заключать в тюрьму. Наказанием, по его мнению, должна служить смертная казнь. Быстрая и безжалостная. Только тех, кому удалось создать настоящий шедевр, можно отпускать на свободу. Просто выпускать из тюрьмы. Это и есть награда. Плохих произведений искусства в результате этой программы должно было стать значительно меньше… Но не стало… Никто не рискнул… Гитлер убивал только цыган и евреев… Сталин, в принципе, уже приближался интуитивно к концепции Ницше, но начал не с того конца. Он казнил гениев. В итоге в советской литературе получился Александр Безыменский. Такое вот имя… Ну, и писал стихи».
Я останавливался на мгновение, находил в себе силы удержать этот бьющий из меня поток, окидывал взглядом их изумленные лица и переходил к самому главному.
«Давайте посадим гениев в сумасшедший дом».
Я делал паузу.
«Давайте разместим их по палатам. Пусть живут парами. Больше двух коек в палату ставить нельзя. За лучшую пару гениев ставлю автоматом зачет. Прямо сейчас. Могу в зачетку».
Они сидели несколько мгновений вполне неподвижно, но потом их маленькие практические мозги начинали заметно шевелиться у них в черепах и шептать им, что у «препода» снова заскок и надо не упустить моментик.
«А то будешь потом париться с учебником, как лох».
Первыми, как всегда, реагировали те, кто усаживался поближе к лекторской кафедре. Этим важно, чтобы преподаватель запомнил их в лицо. Будущие работники администрации. Или шлюхи.
Как получится.
«Марк Твен должен оказаться в одной палате с Эдгаром По».
«Почему?»
«Он продолжает его романтические традиции… В некоторых произведениях».
Все-таки работники администрации. Выдает использование в речи устойчивых конструкций без понимания смысла. Для шлюх маловато мозгов и чувства собственного достоинства.
«Спасибо, девушки. У кого есть другие идеи?»
«Хемингуэя надо посадить вместе с Диккенсом», – оживали незаметные персонажи в средних рядах.
Эти – групповой портрет курса. Любого. Собирательный образ, о котором на уроках литературы любят поговорить школьные учителя. Меняется только год выпуска на снимке. И лицо куратора группы. Слегка печальное, поскольку он-то догадывается, что такое «собирательный образ» и каково оказаться с ним на одной фотографии. Вот уже в пятнадцатый раз.
«Поясните насчет Хемингуэя и Диккенса».
«Женщины, Святослав Семенович. У этих писателей были проблемы с женщинами».
«Ну и что? У всех есть проблемы с женщинами. Подозреваю, что у женщин у самих из-за этого масса проблем. Почему эти двое должны жить в одной палате?»
«Хемингуэй был женат несколько раз и все время бросал своих жен, а от Диккенса жена ушла к другому и оставила ему десять детей».
«Интересно. И что же, по-вашему, тогда между ними общего?»
«Хемингуэй мог бы помочь Диккенсу… разобраться в этих вопросах… Объяснил бы ему, как надо себя вести».
«А-а, – говорил я. – Теперь понимаю. Обмен опытом. Передовик производства берет лентяя и прогульщика на буксир. Такое уже было в живописи, когда Гоген взялся присматривать за Ван Гогом. Кончилось неразберихой, бритвой, беготней и отрезанными ушами. Нет, надо быть осторожней. Гениям нельзя поучать друг друга. Наставником гения может быть только абсолютная бездарность».
«А что, если Киплинг и Шекспир?» – раздавался голос откуда-то сзади.
«Любопытно, – отвечал я. – Ждем объяснений».
В этой зоне, не доходя до самых последних рядов, селились «небезнадежные». В одной книге Бродский писал о венецианской набережной Fondamenta degli Incurabili, куда во время эпидемий то ли холеры, то ли чумы свозили тех, кому помочь уже было нельзя, поэтому место так и назвали – «Набережная неисцелимых». Там, откуда только что прозвучал голос, вместе с моими неясными надеждами время от времени обитал какой-нибудь студент, у которого, как мне казалось в отдельные моменты его просветлений, был шанс этой венецианской набережной избежать. Впрочем, чаще всего выяснялось, что и в этом смысле я воспринимаю действительность с излишним оптимизмом. Во всяком случае, Люба никогда не упускала возможности быть ироничной по этому поводу.