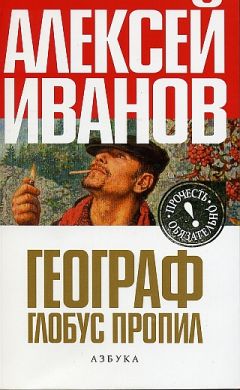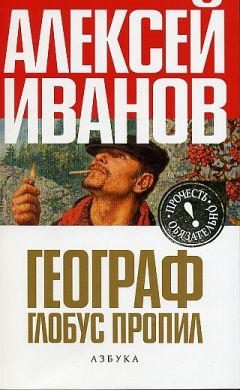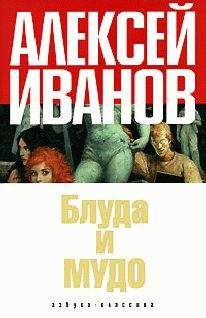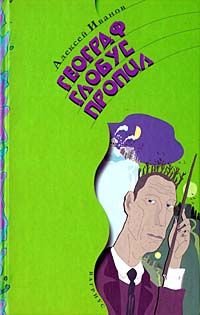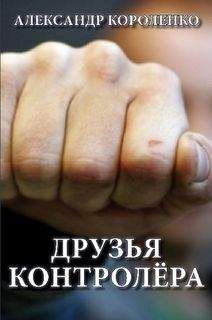Будкин неожиданно затормозил. Девушка в парке перебралась через сугроб с прослойками сажи и открыла переднюю дверцу.
— Привет, — сказала она. — До города или домой?
— А куда хочешь, — ответил Будкин. — С коллегой поздоровайся.
Девушка оглянулась. Это была Кира Валерьевна.
— А, это ты... — небрежно сказала она, увидев Служкина.
— Только сначала мы его домой забросим, — предупредил Будкин.
У подъезда он выволок Служкина из машины, повесил себе на шею и попер вверх по лестнице. Кира сзади несла будкинскую папку.
— Я позвоню, а вы пока кофе попейте, — предложил Будкин, сбрасывая Служкина в прихожей, и прошел в комнату к телефону.
— Проходи на кухню, — печально сказал Служкин Кире. — Кофе там. Можешь не разуваться. У меня никто не разувается...
— Алё, Дашенька? — раздался голос Будкина. — Босса позови.
— Что-то ты сегодня квёлый, — расстегивая парку и усаживаясь в кухне на табуретку, заметила Кира. — Без обычных своих подначек...
— Подначки в заначке, — вяло отшутился Служкин, включая чайник.
— Ничего у тебя дома, уютно.
— А чего ты хотела? Чтобы у меня на окне решетка была и на мокрых бетонных стенах гвоздем было выцарапано «Долой самодержавие!»?
— Разогреваешься, — хмыкнула Кира. — Как нога?
— В больнице сказали, что скоро на передовую.
— Как хоть ты ее сломал-то? — Кира глянула на гипс.
— Пьяный катался с горки на санках и врезался в березу.
Кира презрительно сморщилась.
— В общем, мне нравится, — подумав, сказала она, — что ты не строишь из себя супермена. Однако ерничество твое унизительно.
— Я не ерничаю. Спроси у Будкина: так и было.
— Что-то у тебя как ни история, так анекдот, и везде ты придурком выглядишь.
Служкин закурил и придвинул спички Кире.
— Любой анекдот — это драма. Или даже трагедия. Только рассказанная мужественным человеком.
— Ну-у, ты себя высоко ценишь!.. — сказала Кира. — А впрочем, чему тут удивляться? Твое ерничество и идет от твоей гордыни.
— Вот даже как? — делано изумился Служкин.
— Ну да, — спокойно подтвердила Кира, стряхивая пепел. — С одной стороны, ты этим самоуничижением маскируешь гордыню, как миллионер маскируется дырявыми башмаками. А с другой стороны, тем самым ты и выдаешь себя с головой.
— Каким это образом?
— Своей уверенностью в том, что тебя по-настоящему никто не воспримет за балбеса, каким ты себя выставляешь.
— Я не выставляю, — возразил Служкин. — Я рассказываю правду. Только занимательно рассказываю.
— Для тебя понятия правды и неправды неприемлемы, как для романа. Твои маски так срослись с тобой, что уже составляют единое целое. Даже слово-то это — «маски» — не подходит. Тут уже не маска, а какая-то пластическая операция на душе. Одно непонятно: для чего тебе это нужно? Не вижу цели, которой можно добиться, производя дурацкое впечатление.
— Могу тебе назвать миллион таких целей. Начиная с того, что хочу выделиться из массы, кончая тем, что со мной таким легче жить. Впрочем, если ты помнишь классиков, «всякое искусство лишено цели». Так что возможен вариант — «В белый свет как в копеечку».
— Не знаю насчет искусства и не помню классиков, но своим выпендриванием тебе ничего не добиться. Сколько ни прикидывайся дураком, всегда найдется кто-нибудь дурее тебя, так что этим не выделишься. И другим с тобой жить легко не будет, потому что ты жутко тяжелый человек. Не обольщайся на этот счет.
— Отцы думают иначе.
— Отцы — это твои школьники из девятого «бэ», да? Глупо считать решающим мнение четырнадцатилетних сопляков, которые ничего в жизни не видели, не понимают и вряд ли поймут. Конечно, на первый взгляд ты податливый: мягкий, необидчивый, легкий на подъем, коммуникабельный... Но ты похож на бетономешалку: крутить ее легко, а с места не сдвинешь, и внутри — бетон.
— Ты из меня прямо-таки какую-то демоническую личность сделала, — усмехнулся Служкин. — Страшнее беса посреди леса. А какое, в общем-то, тебе дело до меня? Я тебе не мешаю. Чего ты заявляешься сюда и начинаешь меня на свои параграфы разлагать?
Кира легко засмеялась.
— Не знаю, — честно призналась она. — Такое вот ты у меня желание вызываешь — порыться в твоем грязном белье. Чужая уязвимость, а значит, чужие тайны у меня вызывают циничное желание вывесить их на заборе. Только редко находятся люди, имеющие тайну по-настоящему. Гордись: ты, к примеру, чудесный зверь для моей охоты.
— Может, ты в меня влюбилась, а? — предположил Служкин.
— Ну нет! — открестилась Кира. — Твоя самоуверенность меня изумляет! Ты мне, конечно, интересен. Если бы я о тебе слышала от кого-то другого, то ты был бы притягателен. Может, тогда бы я и влюбилась в тебя — заочно. Но когда собственными глазами видишь все это, — она презрительно обвела Служкина сигаретой, — то просто отторжение какое-то.
Из комнаты, хехекая, вышел Будкин.
— От него и так уже летят клочки по закоулочкам, — сказал он. — Хватит, Кира. Ехать пора.
— Ты подслушивал! — сокрушенно воскликнул Служкин. — Ах ты, Будкин, вульгарная ты саблезубая каналья! — Он поднял костыль, приладил его к плечу, прицелился в Будкина и выстрелил: — Бах!
— Мимо, — хехекнув, ответил Будкин.
Будкин открыл Служкину дверь, завернутый, как в тогу, в ватное одеяло, словно римский патриций в далекой северной провинции.
— Ты чего в такую рань? — удивился он.
— Хороша рань, я уже три урока отдубасил...
В ванной у Будкина шумела вода, кто-то плескался.
— Ты, что ли, там моешься? — разуваясь, спросил Служкин.
— Я, — хехекнул Будкин, возвращаясь на разложенный диван.
— Вечно у тебя квартира всякими шлюхами вокзальными набита... — проворчал Служкин, проходя в комнату и плюхаясь в кресло.
— Ты чего такой свирепый? — благодушно спросил Будкин, закуривая.
— Объелся репой, вот и свирепый...
Тут в ванной замолкла вода, лязгнул шпингалет, и в комнату как-то внезапно вошла грудастая девица в одних трусиках. Увидев обомлевшего Служкина, она покраснела от злости и прошипела:
— Предупреждать надо, молодые люди!..
Она яростно сгребла со стула груду своих тряпок, выбежала из комнаты и снова заперлась в ванной.
— Это что за видение из публичного заведения?..
— А-а... — Будкин слабо махнул рукой. — Вчера скучно стало, я решил покататься. Она попросила подвезти... Вот до утра и возил.
Служкин молча покачал головой. Они курили и ждали девицу, но девица, выйдя из ванной, не заглянула в комнату, быстро оделась в прихожей и вылетела в подъезд, бахнув дверью.
— Может, она твое фамильное серебро унесла? — задумчиво предположил Служкин. — Или годовой запас хозяйственного мыла?.. А ты все лежишь, как окурок в писсуаре.
— Ладно, встаю, — закряхтел Будкин и постепенно поднялся. — О! — сказал он и взял со стула кружевной черный лифчик. — Еще один!.. Хочешь, Витус, покажу тебе свою коллекцию забытых лифчиков? Там и от Киры имеется...
— Могу тебе до кучи вечером еще и Надин принести, — мрачно ответил Служкин. — Или уже есть?
— Как тебя, Витус, еще земля носит? — в сердцах заметил Будкин и, плотнее запахивая одеяло, побрел из комнаты. — Пойдем в кухню кофе пить... Эта Света — или как ее? — чайник согрела...
— На Свете счастья нет... — пробормотал Служкин.
В кухне он сел за стол и тяжело замолчал.
— Что, опять тебя сегодня ученики надраили? — проницательно спросил Будкин, одной рукой разливая кофе, а другой придерживая одеяло на груди.
— До жемчужного отлива, — кивнул Служкин.
Уже целую неделю он ходил на работу. Первый же урок, который ему поставили, оказался уроком у девятого «вэ». Служкин сам потом признал, что, сидя в гипсе, он малость утратил чувство реальности, а потому явился на урок не как Емельян Пугачев в Белогорскую крепость, а как разночинец, совершающий «хождение в народ». И народ не подкачал.
По служкинским меркам, урок проходил довольно мирно. Но это потому, что самое главное Служкин просмотрел еще в начале. Дело в том, что в его кабинете в его отсутствие вела уроки Кира Валерьевна. Она и оставила на учительском столе целую стопу тетрадей шестиклассников. Проходя мимо, Градусов ловко и незаметно стащил эту стопу, а потом раздал тетради своим присным. Присные и помалкивали весь урок, разрисовывая тетради самыми погаными гадостями.
На перемене Градусов так же незаметно положил стопу обратно. Следующим уроком у Служкина зияло «окно», он решил заполнить журнал и ненароком столкнул тетради на пол. Тетради упали, рассыпались, раскрылись — тут-то Служкин и узрел художества.
Плача жгучими слезами бешенства и бессилия, Служкин листал изгаженные тетрадки. Не только он сам, но и весь педколлектив школы нашел отражение своих интимных забав в творчестве зондеркоманды. Однообразные рисунки и однообразные матерные подписи ничем, кроме глупого и глумливого похабства, удивить не могли.