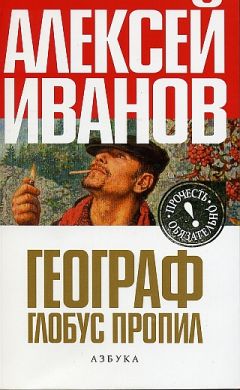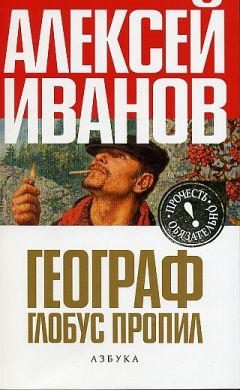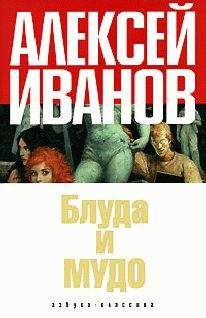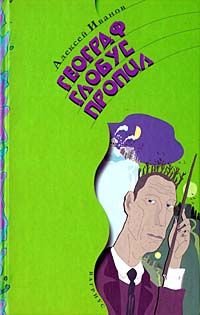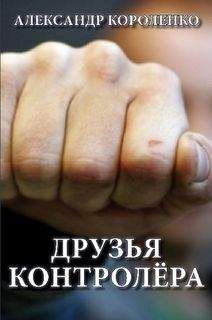Яркий до изумления закат горел над Речниками. В синей дымке от блинов свет его приобретал апельсиновый оттенок. На столе в блюде, закатив глаза, лежали потные, сомлевшие, янтарные «пятаки». В сковородке щедро лучилось расплавленное масло. Варенье в вазочке от невообразимой сладости стало аж лиловым. Чай приобрел густо-багровый, сиропный цвет. Даже пышная сметана стеснительно порозовела. Все расселись вокруг стола. Будкин, причмокивая, сразу схватил один «пятак», положил его на широкий, как лопата, язык и убрал в рот, как в печь. Хмыкнув, он оценивающе пошевелил пальцем груду блинчиков.
— Чего таких мелких напек? — спросил он.
— Поварешку лень стало мыть. Пипеткой воспользовался.
— Не лазь руками, — велела Будкину Надя, накладывая блинчики в блюдечко Тате. — Еще неизвестно, где ты ими ковырялся...
Пуджик, не дождавшись подачки, истомился бродить между ножек стола и табуреток, словно в лесу, прыгнул Наде на колени и сразу сунул усы в ее тарелку с «пятаками».
Надя стукнула его по лбу:
— Брысь! Я тебе перед уходом полкило куриных шей скормила!
— Куриные шеи? — задумчиво переспросил Служкин. — У нас в школе в столовке всегда суп с куриными шеями. Я диву даюсь, откуда столько шей берется? То ли курицы, как жирафы, то ли многоголовые, как Горыныч... А может, нас там змеями кормят?.. Пуджик-то, что, вместе с вами на лыжах ходил?
— Нет, он перед подъездом откуда-то из сугроба вылез.
— Не из сугроба, а из окна подвала, — поправил Надю Будкин.
— В подвале мог бы и мышей нажраться, — заметил Служкин. — Я слышал, он осенью с черным котом из третьего подъезда пластался?
— Было дело, — авторитетно подтвердил Будкин.
— То-то я заметил, что год назад все молодые коты черные были, а теперь серые пошли... Твой грех, Пуджик? Ты теперь в нашем подвале самый крутой?.. Видел я позавчера из окна, как он со своими мужиками в подвал дома напротив ходил. Бились, наверное, с местными. — Служкин ногой повалил Пуджика на пол и повозил его по линолеуму туда-сюда.
— Надя, смотри, Пуджик умер!.. — испугалась Тата.
— Не, теплый. — Служкин снова потрогал его ногой.
— Он теплый от солнца, — печально сказал Будкин.
— На, ешь, — смилостивилась Надя и кинула Пуджику «пятак».
Пуджик мгновенно ожил и бросился к подачке.
— Кстати, — вдруг хехекнул Будкин. — Опять чуть не забыл... Летом еще хотел подарить, да засунул в белье и найти не мог, только вчера выкопал... — Он встал, ушел в прихожую и вытащил из кармана пуховика кулечек. Из кулечка он вынул красную детскую панамку и протянул Тате: — На, мелкая, носи. Я ее в Астрахани на аттракционе выиграл, а куда она мне?
— Примерь-ка, Тата, — попросила Надя.
Тата серьезно взяла панамку, расправила, осмотрела, слезла с табуретки и стала просовывать ноги в две большие дырки для косичек.
— Это же панама! — ахнула Надя. — Она на голову одевается!..
Тата еще раз придирчиво осмотрела панаму и солидно возразила:
— Нормальные красные трусы!
Служкин, Будкин и Надя покатились с хохоту.
— Слышь, Будкин, — вытирая с губ сметану, сказал Служкин, — я вспомнил историю про трусы, как ты Колесникова хотел расстрелять...
Будкин блаженно захехекал.
— Что, по-настоящему? — удивилась Надя.
— Еще как по-настоящему, — заверил Служкин. — Могу рассказать эту историю, только она длинная, как собака.
— Валяй, — велел Будкин, а Надя хмыкнула.
— Было это лет триста назад, — начал Служкин. — Родители наши отправились загорать на юг, а нас с Будкиным забубенили в пионерский лагерь. В общем, они каждый год так поступали, и мы с Будкиным уже привыкли просыпаться июльским утром под звуки горна и по уши в зубной пасте. Мне тогда треснуло двенадцать лет, а Будкину, соответственно, одиннадцать. Мы были в одном отряде «Чайка», Колесникову же исполнилось четырнадцать, и он угодил в самый старший отряд «Буревестник». И еще надо добавить, что в те далекие годы Будкин не был таким разжиревшим и самодовольным мастодонтом, как сейчас, а наоборот — мелким, щуплым тушканчиком с большими и грустными глазами и весь в кудрях. Еще он был очень тихим, застенчивым и задумчивым, а вовсе не шумным, наглым и тупым.
Вожатой в нашем отряде «Чайка» была студентка пединститута по имени Марина Николаевна. Девица лет двадцати с комсомольско-панельными склонностями, как я сейчас понимаю. Ну то есть турпоходы, стройотряды, багульник на сопках и рельсы в тайге, костры там всякие, пора-по-бабам на гитаре, и все для того, чтобы где-нибудь за буреломом ее прищемил потный турист в болотниках или грязный геолог со скальным молотком. По лагерю наша Марья ходила в брезентовой стройотрядовской куртке, вся в цветастых лычках и значках с красными флажками и непонятными аббревиатурами — «ССО-ВЦСПС» или «НСКВР-ЖПЧШЦ». И дружила наша Марья с физруком, престарелым козлом, который в придачу к этому работал также сторожем, конюхом, электриком и вообще всем на свете. Вот в Марью-то Будкин и влюбился.
Он сразу стал членом трех тысяч идиотских кружков, ходил на все заседания совета отряда и Совета дружины, малевал убогие стенгазеты и после полдника таскал в столовку, где проводились репетиции самодеятельности, для Марьи ее гитару. Из-за этого я страшно осерчал на Марью. Хрена ли? Я собираюсь важным и интересным делом заняться: ну там смотаться на пристань, чтобы прокатиться на речном трамвайчике, или пойти подглядывать в девчачий туалет, или пробраться за территорию лагеря в заброшенный дом, где, по слухам, в прошлую смену беглые зэки пионера на галстуке повесили, — а эта влюбленная колода бродит за Марьей, как белая горячка за алкоголиком, и никуда со мной не хочет.
Конфликт же между нами и Колесом начался с того, что однажды мы ждали Марью с какого-то собрания и от нечего делать качались на качелях. Тут мимо нас Колесников пылит. Его, видно, старшаки только что надрючили, вот он и решил на нас отыграться. Подруливает и давай куражиться: салабоны, мол, сопляки, шкеты. Сразу, понятно, толпа наросла: ждут, когда махаться начнем. Я-то что, мудрый человек, сижу поплевываю, а Будкин завелся. Поспорил он с Колесом, кто из них на качелях «солнышко» прокрутит. Колесо посчитал, что таким образом он всем покажет, кто Чапай, а кто белогвардейцы, и не знал, дурак, что Будкин в этом деле — великий мастер. Скок они оба на качели и давай болтаться из стороны в сторону. Раскачались уж наполовину, даже больше, только галстуки пионерские трещат. И тут у Колеса попа играть начала. Он решил сделать вид, что сорвался, а на самом деле — спрыгнуть. Ну и стартовал. А надо пояснить, что в нашу столовку с пристани все продукты физрук возил на лошади, и весь день эта сучья кобыла беспризорная шлялась по лагерю и гадила повсюду. И вот летел Колесо по небу, летел, планировал к земле, да и завяз в куче навоза. Лежит в нем пластом и дымится, как сбитый «мессершмит».
У нас у всех со смеху чуть пупы не развязались. Будкин с качелей рухнул. Марья тут на крыльцо вышла и еле-еле не родила. Колесников подымается весь зеленый и плачет от злости. Марья его двумя пальцами за плечо взяла, нос зажала и повела через весь лагерь в баню — а сама ржет, загибается.
После этого Колесо на Марью и озлобилось. Как-то раз понес Будкин гитару Марье на репетицию. Тут Колесо навстречу вихрем. Хвать гитару из рук у Будкина — и драпу. Будкин за ним — да разве догонишь? Примчался Колесников с гитарой в конюшню и какой-то щепкой напихал гитаре внутрь целую гору навоза. А потом кинул Будкину: возвращайте, мол, владелице музыкальный инструмент. Теперь уж Будкин заревел от обиды. Ушел на Каму и два часа полоскал там балалайку, потом сушил.
Я вечером мотался в столовку — компот выпрашивать. Ковыляю обратно, полный компота, ландшафтом любуюсь и вдруг вижу — посреди этого ландшафта Будкин с Колесниковым дерутся, как Сталин с Гитлером. Точнее, Колесо просто окучивает Будкина. Ну, с компота я могучий стал, ворвался. Обоих нас Колесу уже не заквасить. Отскочил он подальше, стал от ярости шишки метать. Я смотрю: у Будкина на лбу рог, у Колеса почему-то пуговицы на ширинке выдраны. Колесо видит: нам его шишки как японцам — гуманитарная помощь; стал он тогда обзываться. Тут-то случайно и попал в уязвимое место. «Будкин-Дудкин, — кричит, — Марьин жених!» Будкин сразу кулаки сжал и на него двинулся, как фаланга Македонского. Я сзади на нем висю, торможу, в землю, как плуг, углубляюсь. Колесо мерзкое смекнуло, что сейчас ему уж точно все спицы вышибут — а зато потом можно будет вволюшку в душу поплевать, — быстрехонько развернулось и укатилось прочь вместе со своей ширинкой.
Прошло дня два. Сидим мы как-то с Будкиным в палате, в дурака играем. Момент напряженный: Будкин в третий раз остается. Значит, идти ему в палату к девочкам и сообщать свежую новость, что он — чухан. А палата наша на первом этаже была. Тут в окне Колесников и засветился. «Хочешь, — говорит, — Шуткин, Марьин корень, про Марью расскажу что-то? Когда, — говорит, — Марья-то меня в баню водила, после качелей, мылись-то мы вместе. И Марья тоже голая была, ну прямо вся без трусов. И я ее щупал везде и дергал, где хотелося. Слово пацана!»