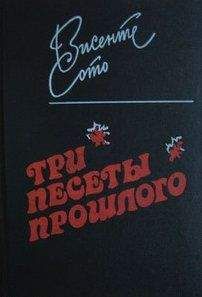Вис — Ваш второй муж тоже скончался, так ведь?
Мерседес — Да, оба умерли. Оба.
Мерседес — Вот, взгляните на них: они все сводные сестры. Я сажусь здесь…
Кроме ее собственной свадебной фотографии, на стене висели еще четыре фотографии поновей, на которых также были запечатлены молодожены. Одна из новобрачных была Росарио. Затем — дочь Мерседес от второго брака (было две дочери, но одна умерла в грудном возрасте). Для ее второго мужа брак с ней был третьим, от первых двух осталось по дочери. Все четыре были уже замужем. От какой-то из этих молодых пар, Вис не помнил какой, родились две внучки…
Газовые платья, фата, новобрачные и невесты. Все — сестры. Все — сводные.
Я сижу здесь, смотрю на них и радуюсь.
Мерседес — А моя помолвка! Четырнадцать лет была я его невестой и никак не могла уговорить родителей и братьев, чтобы согласились, потому что…
Бла — Четырнадцать лет!
Мерседес — Четырнадцать лет. Сначала для меня это было вроде игры. Совсем еще девчонкой была. Четырнадцать лет. Бывало, по три-четыре года с ним не виделась. Мы жили на хуторе, и я ломала голову, как бы послать ему письмо.
Между хутором и городком, где жил Хасинто, сообщение осуществлялось с помощью вьючного мула, с которым отправлялся в городок кто-нибудь из братьев Мерседес. И в седло ("в седельную бляху” — Вис, пожалуй, так и не разберется, что это такое) она прятала письмо.
Сверну трубочкой и суну туда.
Через какую-то женщину Мерседес известила Хасинто о тайнике, и он таким же способом отвечал ей…
Так что братья мои, сами того не зная, служили нам почтальонами. Туда и обратно.
Так удивительно и просто открываешь для себя этих людей. Узнаешь о их любви, о мечтах. О событиях их незаметной жизни. Оказывается, они были настоящими живыми людьми. Оказывается, эти персонажи трагедии (андалусской, средиземноморской — очищающей), эта женщина, обряжавшая своего героя в могилу живым, и сам герой несли в себе вот эти человеческие судьбы. Получается, что они потому и стали персонажами трагедии, что были настоящими живыми людьми.
Мерседес — Подумать только, какая жалость! Если бы мой Хасинто не поторопился домой! Ведь мы жили в Мадриде, Листа, 46…
Как?
А пришлось вернуться сюда. Но меня уверяли, что его не… Потому что ничью кровь он не проливал… И мне говорили, что… И он поверил. Вернулся. Надо же! Из Мадрида сюда!
Из безвестности в западню. Но обычно жителю маленького городка ничего другого не оставалось, как вернуться в родные края или не покидать их, хотя бы и пришлось прятаться в какой-нибудь норе (в буквальном смысле слова); в те времена никуда больше его не тянуло. Или можно было уйти в лес (где-нибудь неподалеку от городка, с которым его связывали прочные нити), с тем чтобы в конце концов вернуться домой. Чаще всего — мертвым.
Его уже разыскивали. И так как здесь известно было, что мы живем в Мадриде на Листа, 46, то он, чтоб его не забрали и не отправили сюда, взял и вернулся сам. В родные края. Когда он пошел на фронт, ему оторвало пулей палец, и его потом направили в тыловую часть, а мы, знаете ли, только что поженились, дело молодое, он находился в Мадриде в казарме… как ее… — “Гарсиа Паредес”, а я поселилась на Листа, и там мы прожили до конца войны. А потом пришлось вернуться сюда.
Вис — Вы знаете, где похоронен ваш муж?
Мерседес — Нет, не знаю, и мне так больно…
Вис — Он похоронен на кладбище Вильякаррильо.
Мерседес — На кладбище.,.
Вис — Его расстреляли там.
Мерседес — Да, конечно, но…
Вис — А знаете ли вы… Там есть памятник расстрелянным, имен на нем нет, а только надпись: “ПАВШИМ ЗА СВОБОДУ”. Там их много.
Мерседес — Как больно, что я не знала.
Вис — Поезжайте на кладбище Вильякаррильо, подойдите к этому памятнику и думайте, что Хасинто там, потому что он действительно там.
Франсиско — Конечно.
Антонио-секретарь — А если нет…
Мерседес — Но там нет его имени?
Бла — Если вы почувствуете, что он там, значит, он там.
Мерседес — Но имени его там нет?
Бла — Нет, нет.
Антонио — Если не там, тогда чуть подальше. Там социалисты поставили памятник, надгробие всем, кого расстреляли в округе.
Мерседес — Да, да, да. Кто поглубже, кто сверху…
В голове Виса проносились неясные сомнения. Он видел призраки людей, шагающих навстречу смерти. Сколько из тридцати расстрелянных жителей Кастельяра покоится там, кто поглубже, кто сверху?
Мерседес — Бог его знает. Бог его знает. Бог его знает.
Вскоре они встали, Вис принялся собирать всякие принадлежности, клавиша японского магнитофона щелкнула, как захлопнутая дверь, присутствующие обменивались впечатлениями, а Мерседес хотела включить свет, но Вис подумал, что лучше бы не надо, он предпочитал разлившийся в комнате бледный полумрак, и неизвестно как из тихого говора и бледного полумрака вдруг возникло нечто такое, что палец Виса снова нажал на клавишу — клик…
Мерседес — …написали это письмо.
“Письмо”, которое отдал ему Антонио-секретарь. Письмо, написанное по поводу смерти Хасинто.
Однако — “написали”? Значит, писал не один человек? Кто именно?
Написали это письмо, когда там была и твоя тетушка, алькальдесса.
Это сказала она другому Антонио, “там" — значит в тюрьме, так должно быть — в тюрьме.
Они его писали, должно быть, когда оставались одни. Одно напишут, потом другое.
Напиши вот это. Скажи, что дальше. Хотя речь шла о письме, мысль Виса унеслась к тому трагическому мгновению, в которое рождается народное творение.
Потому что свекровь моя была очень умная и любила такие вещи.
Вис — Но ведь это письмо написали в тюрьме.
Мерседес — Да, конечно.
Шум голосов.
Вис — И она умерла.
Мерседес — Да, умерла, но здесь, у нас в городке. Когда была уже на свободе. И случилось это… Двенадцать лет как умерла.
Все поднялись, и Вис, собирая свои вещи, ощущал ход времени как движение ветра, который гонит по небу тучи, изменяя их очертания, Мерседес встала зажечь свет, но Вис предпочитал разлитый в комнате бледный полумрак, в котором Мерседес казалась окруженной развевающейся подвенечной фатой, и рука Мерседес замерла у выключателя — свет она так и не стала включать.
Многим из тех, кто в тридцать пятом наслаждался жизнью в “Батаклане” вместе с Висенте и его друзьями, не мог не показаться бесконечным тот период в истории Испании, который длился уже более года и которому суждено было растянуться до черного двухлетия; многим из тех, кто был всего лишь зрителем во всех остальных батакланах, на корриде или на футбольном матче… В этом проявлялось то самое противоречие, которое носит в себе каждый человек, уживаясь сам с собой. И дело тут не в том, что, как говорится, всего понемножку в жизни, нет, дело в том, что больше одного — больше и другого. И в Испании, мрачной и склонной к трагизму, начало этого черного двухлетия — без особых официальных смещений, без новых флагов и гимнов — ознаменовало, по сути дела, конец Второй республики[45]. Разве не так? Висенте еще будет спрашивать себя об этом. И не раз, но это будет намного позже. А в те времена… Когда Бернабе объяснял своим друзьям Экспосито и Висенте, что в стране хозяйничают СЭДА и Леррус[46], заключившие между собою соглашение, те хмурили брови, их это действительно заботило, но понять все как следует, до конца они не могли, а когда Бернабе говорил, что надо дать бой каркам[47], они отвечали: еще чего не хватало, — и когда Бернабе говорил, что они ведут себя, как будто они из ФУИ, они отвечали: а что еще делать, — на что Бернабе отвечал: становиться людьми, — а они: ну вот еще, хотя Висенте толком не понимал, при чем тут ФУИ, для него ФУИ символизировала атлетику, регби и футбол, и еще она была великолепной иллюзией объединения студентов в нечто вроде труппы бродячих актеров, и в самом деле это было неслыханно: авангард традиционализма с примерным усердием показывал в деревнях великолепные пьесы, правда, при этом время от времени слышались звуки раздаваемых (и получаемых) в знак протеста пощечин, в университете, в коллежах, на улице, и в других местах, и происходили эффектные буйные стычки с гражданской гвардией, как будто подобные вещи могли низвергнуть дона Хосе Марию или дона Алехандро[48], который, кстати, совсем недавно еще слыл ярым республиканцем, — нет, Висенте этого не понимал. Разумеется, когда Бернабе с головой уходил в последнее приключение Шерлока Холмса или, скажем, искал приключений в жизни, увиваясь за дочерьми контрабандиста Пакито или за какой-нибудь хористочкой из “Батаклана”, — тогда, что и говорить, он забывал о своих левых взглядах. На радость своим друзьям. А то он их все время озадачивал. Тоже мне деятель! Но радость была недолгой. Не успеешь оглянуться, он снова на тебя наседает, гнет свою линию. Просто удивительно, каким серьезным он был для своего возраста. Пройдет время, и Висенте сам станет отчаянным романтиком — как бы в память о Бернабе, который так же повлиял на его политические воззрения, как Экспосито — на отношение к литературе, именно Бернабе показал ему, что значит жить вместе с народом, ощущать себя частицей народа, и впоследствии это станет для Висенте насущной необходимостью. Правда, он никогда не интересовался политикой в теоретическом плане — к теории был равнодушен, — но при всей своей апатии, если не антипатии, был уверен, что путь, пройденный им за немногие годы его жизни до гражданской войны, он прошел вместе с Испанией. Трудный и горький путь, на котором волей-неволей втянешься в политику. Его судьба, судьба провинциального юноши, о, если в чем и была типична, то как раз в том, что он, как и все испанцы, от жизни, в которой политика была нипочем, пришел к политике, которой нипочем была жизнь. И он всегда считал подлым передергиваньем, ширмой для ловчил расхожее утверждение, что, мол, всякий политический деятель — прежде всего человек без стыда и совести (просто бывают плохие политические деятели, как бывают плохие музыканты — так он обычно говорил), и не раз он испытывал угрызения совести оттого, что все откладывал да откладывал серьезное изучение политических концепций и программ. Ну что я могу поделать, если у меня к этому душа не лежит, говорил он. Ведь не любит же Бернабе Достоевского, и с этим ничего не поделаешь. И много еще чего говорил Висенте. Хватит об этом. Можно и честным путем прийти к софизму. Это злой парадокс. Это Экспосито говорил: парадокс. Хватит, хватит. Висенте суждено было проделать свой путь в политике, руководствуясь только чутьем. Самым примитивным способом, как самому что ни на есть деревенскому парню. А кроме Бернабе, хотел этого Висенте или нет, были еще и события. Была история, которую сначала переживаешь, а уж потом, если придется, читаешь. До того как это запоздалое и ущербное прочтение позволит ему понять, какие зарубки в его душе оставило то, другое или третье, он этих зарубок замечать не будет. Привычка приводит к тому, что ты живешь, не замечая дырки в зубе. Или другого скрытого изъяна, рубца. О нем очень хорошо знает твое тело, оно многое знает, но молчит. В той действительности, которая его окружала, Висенте лепил самого себя вслепую. У него вызвала безотчетную, почти детскую ярость зверская расправа над астурийскими горняками[49]. Он поражен был гнусной и вероломной ликвидацией (правда, это он слышал от Бернабе) законов, обещавших восстановить человеческое достоинство крестьянина и рабочего (правда, это тоже говорил Бернабе, но факты сами говорили за себя), после чего крестьянин и рабочий прибегли к (не) надежному средству забастовки. Черт возьми, как будто я снова слышу слова Бернабе. Ну и прекрасно, пусть снова говорит Бернабе. Он говорил, что так оно и есть, что они проводят аграрную контрреформу, что они душат Республику. А те, кто позволяет ее душить, тоже ее душат. В дальних закутках своей памяти Висенте слышал затем отголоски скандала со спекуляциями, слышал перебранки на улице, обогатившие испанский лексикон уймой жаргонных словечек, слышал трескучие речи парламентариев, репетировавших панихиду по Республике, которую многим из них не терпелось отслужить. И вот в один прекрасный день могильщики подняли головы, для многих заветный срок приближался семимильными шагами. Каждый готовил свечу, которую будет нести на похоронах, и думал о политической стряпне, которую так хотелось предать земле. Весной тридцать пятого в воздухе носилась жажда свержения, она не выветрится и летом, и в остальные месяцы года. Одни нетерпеливые голоса репетировали реквием, другие — новые или хотя бы подновленные гимны. Слишком легко теперь перечитать и вновь пережить историю, и в этой легкости таится опасность. Начинаешь ее перечитывать, и хочется оставить всю правду как она есть, с ее перепутанным календарем, сохранить живыми и трепещущими такие моменты, которые возникают лишь как предчувствие, а потом раскатываются многоголосым эхом; если расставить даты точно, можно убить много драгоценного и уж точно убьешь историю внутренней, душевной жизни героя. Как-то раз Висенте встретил Экспосито.