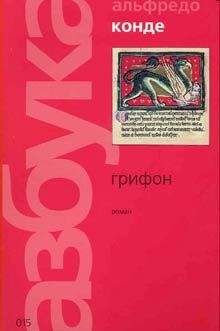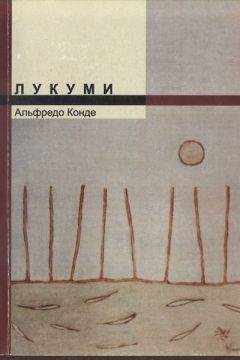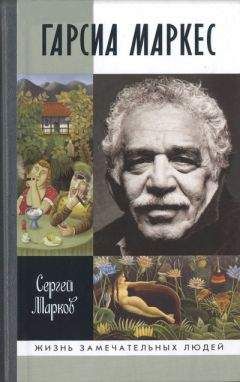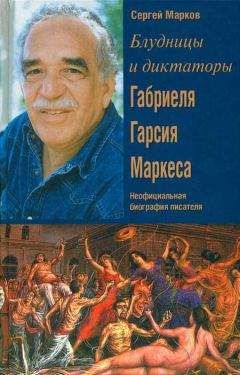Вскорости я вновь явился, дабы находиться при нем, ибо ведал я, что смерть его будет скорой. Он не переставал говорить вслух, но не столь громко, чтобы можно было предположить, что делает он это для того, чтобы я его выслушал; и речь его казалась мне рассудительной и искренней, как у человека, что мыслит вслух, не стесняясь присутствия кого бы то ни было, кто, как я, нарушал его уединение, и взывал к он Пречистой Деве Белого Меча; обращение сие к Пречистой было мне неведомо, и полагаю я, что принято оное в далеком и древнем королевстве Галисия. Позже изумил он меня не исповедью своей, а одним своим признанием и поручением, мне данным, так как было оно необыкновенным и ввиду его духовного сана привело меня в великое смущение, ибо поведал он мне следующее. «Не знаю, — сказал он, — падре, заметили ли Вы, Ваше Преподобие, что я умолчал в своей исповеди об одном обстоятельстве, но, поскольку сердце мое не может более выносить сие в одиночестве, хочу я Вам об этом поведать; дело в том, что оставляю я в сем мире сына, и мысль о нем пронзает мое сердце; и прошу я Ваше Преподобие позаботиться, чтобы мать воспитала его добрым христианином, в страхе перед Господом нашим, а также честным человеком и с тем достоинством, каковое подобает ему, как честному человеку, рожденному в столь славном королевстве». И с такой нежностью он это молвил, что лишь теперь, когда я пишу Вашему Преосвященству, смею я донести об его отцовстве, но поручение сие передаю я Вашему Преосвященству, ибо живу я слишком далеко от Вашего королевства, а Вашему Преосвященству, полагаю, известно, кто его мать, о каковой я желал бы ничего и не ведать. Столь велико было умиление мое от его признания, что обещал я исполнить, насколько то в моих силах, все, о чем так искренно и с таким усердием он меня просил (могу также доложить Вашему Преосвященству, что дитяти два или три года от роду). Дабы облегчить его горе, прочел я ему то место из жития святого мученика Игнатия, что читаем мы обыкновенно на заутрене в день сего святого, где сей славный мученик бросает вызов всем страстям мирским и даже самому диаволу, дабы набросились они на него и он через них смог бы приобщиться к Господу; и сделал я это, дабы узник наш внял и уразумел, что Господь Бог может укрепить слабое сердце, бьющееся в груди у простых смертных, и, взяв в заступники оного славного мученика, испросил бы помощи и крепости у Господа, что он, несомненно, и сделал и что было ему даровано милостию Божьей, как я сейчас поведаю.
* * *
День подходил к концу; Профессор расправил листы бумаги и положил их на ночной столик; он устал от чтения, устал от насилия и вовсе не был уверен в том, что именно предлагала ему Люсиль вместе с этим посланием, исполненным жестокости, бесчеловечности, но в то же время не лишенным определенной привлекательности для сегодняшнего читателя, оторванного от таинства богослужения, с которым сам он еще в детстве был тесно связан. Вручая ему это письмо, Люсиль связала его каким-то образом с Грифоном, или ему так показалось, или она говорила что-то о свободе и справедливости в те времена и сейчас.
Он положил письмо на ночной столик и повернулся к Мирей, которая уже ждала его. На улице смеркалось.
Много есть чему поклониться в Святом граде Сантьяго-де-Компостела. Диего Шельмирес, бывший там Архиепископом, одарил его необыкновенными сокровищами, и в один лишь день в Компостелу доставлены были мощи трех святых, что хранятся здесь и поныне; а четвертое тело осталось за городскими воротами, в церкви, носившей ранее имя Святого Спасителя, а с того времени названной именем Святой Сусанны, которая сейчас там покоится: мощи ее так и не внесли в Компостелу. В награду за чудесный прием пожалован был церкви сей бесценный дар — тело девушки, претерпевшей страшные муки за то, что не пожелала она выйти замуж за сына еретика Диоклетиана [94], римского императора, эта святая, святая Сусанна.
Мощи Святого Кукуфато, также великомученика, хранятся в раке более трех пядей в длину, двух в высоту, в гробнице, покрытой чеканной латунью и украшенной старинной узорчатой эмалью. Он был замучен в Барселоне и теперь должен благодарить доброго Шельмиреса за сырость, в которой покоятся его останки, и за тот плачевный вид, что, без сомнения, приобрели теперь его кости. То же самое происходит и со святым Фруктуосо — считается, что у него утрачена голова, но, возможно, она скрыта под множеством осколков, в которые, словно разбитый фаянс, превратились кости его; отдельно покоится и голова святого Сильвестра; останки всех четырех мучеников перенесены сюда благодаря Диего Шельмиресу. Есть здесь и другие святыни. Голова святого апостола Иакова, сына Алфеева, а не Зеведеева, также хранится здесь благодаря радению Архиепископа Шельмиреса, перенесшего ее четыреста лет тому назад из Иерусалима, как убеждены теперь все в Компостеле, вместе с шипом из Венца Спасителя Нашего; каковой шип, судя по его цвету, весьма отличается от распространенных по всему миру; он скорее походит на шип грушевого дерева, во всяком случае так свидетельствует брат Амбросий де Моралес, приезжавший по поручению короля дона Филиппа, с тем чтобы произвести учет всех Священных Даров, хранящихся в наших землях. По крайней мере так говорят.
Именно брат Моралес прислушался к мнению местных каноников и удостоверил по зубу, что голова принадлежит святому Иакову, сыну Алфееву, а не Зеведееву: «In hoc vase aureo quod tenet ista imago, est dens beati Jacobi Apostoli, quern Gaufridus Coquatriz Civis Par dedit huic Ecclesiae. Orate pro eo» [95].
Но странник, завершающий здесь свое паломничество, может также помолиться перед рукой святого Христофора, привезенной кардиналом Авалосом из Германии; это величественная и прекрасная кость; страх и смятение охватывают при одной мысли о том, какому великому человеку принадлежала она. Немалое рвение проявил этот кардинал дон Гаспар, ибо привез он также семь из одиннадцати тысяч голов, светившихся некогда чистым взором одиннадцати тысяч непорочных дев. Но и другие останки — тех, кто пусть и не был святым и не претерпел великих мучении, а, напротив, наслаждался жизнью и привилегиями, которыми она их одарила, — также упокоились в святом граде Галисии: здесь гробница короля дона Фернандо Леонского [96] и короля дона Альфонсо [97], также Леонского, отца дона Фернандо [98], прозванного Святым; а если чьи-то останки здесь и не покоятся, то это объясняется традицией, повелевающей, где кому должно быть; это справедливо, как справедливо и то, что истлевшее тело королевы Виоланты покоится в городе Альярисе, омываемом водами Арнойи.
Здесь лежит и прах доны Шоаны де Кастро, той, что была супругой дона Педро, которому она подарила сына, прежде чем умереть в августе месяце года одна тысяча четыреста двенадцатого от Рождества Христова. И все это в Компостеле, в Святом граде…
Но ревностное собирание священных останков нашим добрым Шельмиресом на этом не ограничилось; движимый рвением, он пришел к мысли о том, что следует укрыть в надежном месте мощи святого апостола Иакова, и совершил сие с таким усердием, что теперь, в шестнадцатом веке Христовой эры, одному Богу известно, где они находятся. Слишком уж утомила нашего доброго Архиепископа необходимость показывать мощи королям и принцам, которые приходили сюда со всего света, совершая Святое паломничество. Обо всем этом размышляет Посланец, возвращаясь в Компостелу.
В типографии Васко Диаса Танко де Френегаля, короче говоря, в мастерской Танко кто-то сделал пером портрет Посланца, о котором он вспоминает без всякой нежности: породистый нос, лукавство в уголках губ; печальные глаза под нависшими веками, довольно крупные уши; дужка очков заправлена за правое ухо, куда обычно плотники затыкают уголек; воскрешая все это в памяти, он с грустью думает о том, что оказался запечатленным таким образом, и теперь уже навсегда. У него щемит в груди, он сожалеет, что не унес рисунок с собой или не разорвал его, когда это было еще возможно.
В мастерской Танко они говорили о книгах, и теперь у Посланца есть исчерпывающие сведения и о книгах, и о тех, кто распространяет их в его стране среди тщательно отобранных верных людей. Он вспоминает об этом сейчас, по дороге в Сантьяго-де-Компостела, который уже встает перед ним на горизонте, устремляясь к небу своими четырехгранными башнями; на центральной башне, самой низкой из трех, — узорчатое круглое окно, а самая высокая, если смотреть стоя лицом к собору, — правая башня.
Посланец уже было решил не въезжать в город Святого апостола, но что-то призывно манит его туда. Он бросает взгляд на Лоуренсо Педрейру, ставшего его другом, но лицо Инквизитора остается невозмутимым. Симона, должно быть, сейчас впустую проводит время, как это частенько случается в ее жизни. Путники въезжают в Сантьяго.
* * *
Они направляются к площади Сан-Мартиньо, к дому графа Монтеррея, где располагается Суд Святой Инквизиции; они проходят через портал, расположенный на углу улицы Врат Скорби и площади Святого Пинарьо; это главный вход.