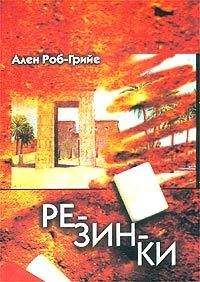Нинка учится в Литинституте который год, имеет мужа-рецидивиста и заделанную от него трехпалую заикающуюся дочь, но живет в общежитии. Метет герценовский двор, что «некогда мел незабвенный Андрей Платонов», беспрерывно пьет и отходит, выслушивает на семинаре Е. Рейна, что ее стихи – «дерьмо», показывает первокурсникам заваренные от самоубийц сетками лестничные пролеты, бывшие комнаты знаменитостей и вмятины в стенах, оставленные студенческими головами, галлюцинирует и в галлюцинациях своих видит, конечно же, Рубцова и жалеет его, убитого женщиной, а в конце рассказа герой, тоже Руслан, как и автор, плачет от расстройства нервов, как будто предчувствуя, что через год Нинки не станет, убьет муж «в припадке пьянства и ревности».
И Андрей Платонов, и Рубцов, и пролеты, и галлюцинации, и вмятины в стенах, и сказочное пьянство вперемежку с исступленным творчеством уже давно стали обязательными сюжетными деталями, универсальными структурными единицами, без которых не только неправильно, но и неприлично писать о Литературном институте. Совсем не следовать устоявшемуся и признанному стереотипу вряд ли получилось бы, потому что в этих самых пролетах и галлюцинациях заключается, пожалуй, вся предметная специфика. Несмотря на свою мифичность, перечисленные компоненты являются несущими и очень реальными.
И «белочки», и суициды, и пьянки – всё это есть. Выпрыгивание из окон общежития выросло в традицию. Последней выпала, будучи уже на учете, одна моя знакомая из Якутии, сломала себе бедро. Другой знакомый в кульминативные минуты затянувшегося опьянения чувствует неодолимую потребность срывать с посольств и приносить к себе в комнату флаги, и при этом повсюду видит драконов, больших и маленьких. Наличие подобных крайних случаев заставляет писателей акцентировать и прокатывать именно их, уплотнять уже создавшийся литинститутский имидж.
Если же отмести всё конкретизирующее и взглянуть на «Нинку» вне этих ставших шаблонными декораций – мы увидим опять-таки бытийные мучения (как жить?) молодых людей, вытесняемые главным спасением – водкой. «Это – лагуна среди страданий. Отдых. Закулисье…» Опять встает проблема отцов и детей, агрессия и дивергенция поколений. В начале рассказа Нинкин муж бьет дочку, потому что она не выговаривает букву «р», и та начинает заикаться. В дальнейшем пафос рассказа не меняется – в шутливой и легкой манере Р. Смородинов заставляет героев терять человеческий облик, пить, драться, но при этом еще думать о конечности Вселенной, сочинять и петь под гитару. Опять-таки показано не преодоление силой созидания низких стремлений, а их какое-то странное сочетание.
Ни одно из обозначенных здесь произведений не несет четких морально-этических интенций, но зло (в виде наркотиков, выпивки, маргинальных знакомств), которым молодые герои себя окружают, все же ощущается ими только как зло. Просто с его помощью они желают преодолеть зло большее – неустойчивость мира, а может быть, отомстить за эту неустойчивость родителям. Однако спасения нет и здесь. Рассказ Виктора Дрожникова, опубликованный в «молодом» номере «Нашего современника», так и называется – «Нет спасения».
Наркомания как рабство, деградация показаны здесь с очерковой точностью. Герой спорит с приятелем на свой мизинец, что завяжет. И проигрывая его, сам же рубит часть своего тела, не чувствуя боли от наступившего опиумного отравления.
Это по сути предательство себя самого, предательство своего пальца и своей души. Полностью втянутый в низшие круги, в которых люди делают себе плохо, чтобы сделать себе хорошо, герой В. Дрожникова, как и Илья М. Кошкиной, отделяет себя от них, до конца не хочет срастаться с ними и мечтает о свободе от «созерцания уродливых лиц – уже не человеков – низких тварей в людском обличии». Впрочем, вполне можно предположить, что каждый из описываемых им «нечеловеков» думает о нем так же. «Это он!» «Он», а не «я».
Названия произведений всех этих молодых авторов – «Нет спасения», «Химеры», «Потусторонники» – говорящие. В них – и непризнание истинности видимого мира, поиск скрытых значений «по ту» его сторону, и ощущение его двуликости и безнадежности, и иллюзорность, миражность, химеричность привычных ценностей.
Но с другой стороны – в них действительное знание происходящего, стремящееся к полноте жизнеизображение, пусть категоричная, но твердо усвоенная позиция. В этой противоречивости отражается биполярность современной жизни. Мы еще не вышли из смутного переходного периода, еще не вступили в фазу относительной стабильности. Мы зависли между морем и твердью, между барокко и классицизмом, между романтизмом и реализмом. Поэтому в литературе одно пока плохо отделяется от другого.
И обрадовавшись первым признакам постоянства, мы спешим делить нежную тушу, забыв, что медведь еще не убит. Спешим воздевать знамя реализма, да еще и «нового» (?) реализма, тогда как проза еще болеет модернистскими болячками – пессимизмом и неверием, когда каждый десятый молодой человек в мыслях своих намыливает веревку… Чтобы вылечить литературу, нужно прежде вылечить общество. Уверена, со временем это обязательно произойдет, время, как говорится, лечит. Но не нужно ему мешать, а тем более обгонять его и есть зеленые помидоры. Главное, держать в голове две замечательные русские пословицы: «Не лезь в пекло вперед батьки» и «Терпение и труд все перетрут».
...
И скучно, и грустно О мотивах изгойства и отчуждения в современной прозе
Не устоявшийся еще как понятие «новый реализм» возник в российском литпроцессе не в виде самостоятельного направления. Скорее – как программа отрицания постмодернизма и его признаков: игрового начала, цитатности, иронии (при том, что в изобразительном искусстве Франции и Швейцарии «новый реализм» является как раз чем-то вроде иронического городского фольклора). Здесь подействовало то, что в психологии называется контрсуггестией: «Ах, вы так! Тогда мы вот эдак!» Термин навлек множество pro и contra: для одних это свершающаяся уже победа истинного осмысления новой реальности, для прочих – просто-напросто мыльный пузырь.
В своей приподнятой и окрыленной манифестации [113] Валерия Пустовая избегает каких-либо скучно-конкретных определений, маня и завлекая то насыщенным образом, то развернутой метафорой. Основная ее мишень – «узко понятый реализм рубежа веков – литература непосредственного переложения реальности на бумагу», тогда как «новый реализм», по ней, – это прозрение. Это избыточное, но не условное, не реальное, но и не альтернативное реальности. «Новый реализм – декларация человеческой свободы над понятой, а значит, укрощенной реальностью». Андрей Рудалев [114] вторит В. Пустовой, заявляя, что современность – это не журналистская злоба дня: «для нас реализм, в отличие от натуралистичности, – это ориентация на сакральные величины».
Однако реализм «старый», «узко понятый», «стержневой» (или как там его еще ни называли) – это не натуральная школа и не бытописательство. Он тоже предполагает некое преображение реальности «в масштабах Истины», вычленяя самое характерное, передавая воздействие общественной среды на судьбы людей, и далеко не чужд двойных или тройных прочтений, неоднозначности, символичности. Трактовать его лишь как рабство у реальности было бы неверно. А сомнительные установки декларируемого молодыми критиками направления на абстрактные понятия Свободы, Истины, Тайны и вовсе не могут удовлетворить.
Марта Антоничева [115] отчитала В. Пустовую за навязывание несуществующего: «Невозможно придумать схему под свою идею». Дарья Маркова [116] – за искусственность определений и неоправданное влечение перевернуть мир. Сергей Беляков [117] расценил обсуждаемый термин как самообман, вызванный стремлением выйти из тупика.
При всем при том «новый реализм», как ни странно, – есть. Другое дело, что вместо того, чтобы отмежевывать его от реализма и постмодернизма, следовало бы как раз признать их очевидную связь. Постмодернизм не ушел совсем, сейчас идет так называемый «хвост» стиля. О безусловном присутствии постмодернистских элементов в современной прозе говорят и В. Пустовая («игровое искривление стержня реалистической традиции в сторону заимствования устаревающих постмодернистских приемов»), и М. Антоничева (цитируя Марка Липовецкого: «необходимо закрепить уроки русского постмодернизма»), и Евгений Ермолин [118] . Последний туманно и широко определяет новый реализм как дрейф к познанию и выражению истины, опережение жизни.
Вообще, апологеты термина разнятся и в своих определениях, и в опорных именах. К примеру, занесенный Е. Ермолиным в список «новых реалистов» Роман Сенчин у В. Пустовой оказывается исторгнутым оттуда за бескомпромиссность, жесткость письма, за безальтернативность отображаемой жизненной картины, мировоззренческое слияние со своими разочаровавшимися героями. Но сенчинский рассказ «Афинские ночи», «Ни островов, ни границ» Олега Зоберна и «Вожделение» Дмитрия Новикова, призванные у нее проиллюстрировать три разные эстетики (реализм, «новый реализм» и «символический реализм» как предельное выражение второго) на деле оказываются подчиненными одной и той же стихии кризиса.