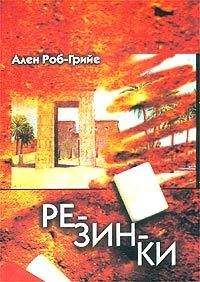Дмитрий Бахур в «Красной кнопке» прямо пишет об этом: «Отчуждение. Отчуждение преследует меня в любом месте, в каждый момент. Вся жизнь проходит через отчуждение. Я чужд этому миру, и он питает ко мне аналогичные чувства». Анна Козлова вторит ему: «Когда я выросла, я стала никому не нужна, меня предают каждый день – за завтраком, за кофе».
Этот своеобразный аутизм ведет к двум противоположным следствиям. С одной стороны, герои сборника идут к акцентированию любой жизненности (питие, любовь), к поиску некоего примиряющего с миром старших начала, и им оказывается русскость (первый раздел сборника так и называется «Слышишь, я – русский»). С другой стороны, герои через самоотравление идут к смерти и, следовательно, к полному разрыву с социумом, для которого, в отличие от первобытных обществ, мертвые являются наиболее дискриминированными (см. «Символический обмен и смерть» Жана Бодрийяра). Смерть становится желанной, так как новые культуры изолировали и противопоставили ее жизни, а жизнь – не устраивает.
Вот некоторые цитаты из одного современного романа «Какова ты на вкус, моя собственная смерть?»: «…Если что-то не предпринять прямо сейчас, то скоро я, наверное, умру насовсем», «Наш с вами мир умер. Но никто не хочет этого замечать», «Дожить свою жизнь до конца и тоже стать мертвым. Скоро Россия начнет разваливаться на куски, и нас всех поубивают».
У романа (который на самом деле не роман, не повесть, а эдакое новеллистическое эссе, где свободное повествование слегка ограничено рамками принятой сюжетной модели) «Мертвые могут танцевать» нет автора, вместо имени – электронный адрес [email protected] Nobody – это никто. Здесь, опять-таки, самоотсутствие, обезличенность плюс аллюзии на интернет-форумы с их доверительно-беспринципной стилистикой и вольностью высказываний. Подзаголовок книги – «Путеводитель на конец света». Она и строится по древнейшему типу книги-путешествия. Шестнадцать путевых эпизодов (Каир, Новгород, Венеция, Дели, Нью-Йорк и т. д.), вольная, приятельская манера изложения и циничная откровенность. В итоге герой предстает несчастным человеком, которому толком нечего и некого любить, который ни во что не верит, который не знает, кто он есть, который переезжает с места на место в поисках любви, веры, надежды, себя, но не находит ничего из перечисленного, – короче, полный набор романтика.
Даже гносеологический оптимизм (всё познаваемо) у Nobody01 приобретает пессимистический оттенок – познавать больше нечего: «Всё, что можно было узнать об окружающем мире, уже известно». Даже рассказывая эпизоды древней истории, сидя на пригорках Старой Ладоги, он признается: «Я ничего не почувствовал». Такое онемение душевных рецепторов героя вызвано обстановкой, воздухом, перекройкой социальных отношений вокруг. Он честно заявляет: «Я бы полюбил тебя, моя страна. Так многие делают, и жить ради тебя, наверное, проще, чем неизвестно ради чего. Но я до сих пор не вижу, за что тебя любить, да и на то, чтобы стать для меня смыслом всей жизни, ты не тянешь».
Что удивительно, несмотря на большие претензии к миру и потерянность в нем, Nobody01 называет свою книгу путеводителем, притязает на мегафон гида. Точно так же «хулиганы» поколения «Лимонки» вдруг объявляют свой сборник учебником. Пускай путеводитель ведет на край света, а учебник читается под партой, тем не менее и то, и другое – дидактический материал, который учит читателей не любить и не верить в обыкновенную жизнь, а искать наслаждения в экзотике. Не в географической, как у романтика Марлинского, а в антропологической – в экзотике измененного сознания и тела.
Все эти авторы поглощены процессом самоидентификации, дифференциацией своего и не своего, ответом на вопрос «кто я?». Этим занимались очень многие литературные персонажи, будь то Джо Кристмас из фолкнеровского романа «Свет в августе» (белый с негритянской кровью) или Митя Вакула из романа молодого букероносца Дениса Гуцко (русский с грузинскими ментальностью и акцентом). Советское половинное деление молодежи на комсомольцев и хулиганов больше не срабатывает, наиболее неблагополучная часть ее разбилась на панков, готов, аскеров, нацболов и прочих, которые счастливы, что выделились, определились и могут сообща выпускать свою энергию, доказывая либо своей отчаянностью, либо внешней запущенностью, либо агрессией, что они существуют.
Однако таким образом выпячиваемое существование оказывается не бытийным, а соматическим, обнаруживающимся преимущественно через элементы телесности («Я есмь мое тело», – говорит А. Козлова), а уже заложенная тут дуальность: плоть либо как буйство карнавала, радости, самоутверждения, либо как символ унижения, истощения, отвращения – оборачивается выбором второго члена дизъюнкции. К примеру, книжка молодой журналистки Анны Старобинец «Переходный возраст», номинированная в рукописи на премию «Национальный бестселлер» в 2005 году, вся построена на реакции отвращения. Обладая действительно недурным, в отличие от «лимоновцев», слогом, А. Старобинец сгущает все физическое, аномальное, что есть в человеке, и доводит это до ужасающего, отвращающего гротеска. Повесть «Переходный возраст» – о том, как мальчик Максим становится муравьиным гнездом, жилищем тысяч насекомых, которых отложила в нем королева-матка. Комната его затхла и зловонна, под кроватью, в наволочке, всюду – полуразложившиеся пищевые запасы. Год за годом он превращается в отвратительного нелюдимого монстра, чьи внутренние органы уже почти испорчены, чей мозг перестает воспринимать себя как себя и мыслит мыслями Королевы и муравьиного коллектива.
Сестра Вика, «однояйцевый» близнец мальчика (здесь фактическая ошибка – однояйцевые близнецы не могут быть разнополыми), стыдится и побаивается его, переселяется в комнату матери, а ничего не понимающая мать не перестает успокаивать себя ссылками на переходный период. Несмотря на явно кафкианскую ситуацию, Максим отнюдь не аналогия Грегора Замзы. Тот, несмотря на обличье насекомого и постепенную рудиментацию человеческого, любит своих мещан-домочадцев, трогательно волнуется за них, тогда как те, напротив, не видят его за жучьим панцирем, ненавидят его и в конце концов доводят до смерти. Здесь же мать с сестрой как раз всячески пытаются понять Максима, однако он сторонится их, всецело подчиняясь воле Королевы. Кончается повесть, как и у Кафки, смертью.
Через девять лет после того, как муравьиная самка залетела в ухо семилетнему Максиму, погибает Викин кавалер, убитый Максимом в лесу. Умирает сама Вика, родив от наполненной муравьиными личинками спермы Максима три кокона. Умирает один из странных зародышей. Умирает Максим, чье тело-оболочку покидают все муравьи. Умирает сама Королева, чей труп тоже выносят из мертвого тела мальчика. Мать, обо всем узнавшая из дневника сына («Она – чужая Мать. Она нас просто кормит. Мы не любим Мать. Мы любим маму. Мы любим матку»), каждый день носит внукам-гибридам сахар и пирожные.
Перенос муравьиной биологии (поедание мертвых и живых насекомых, слюны больных людей) на человека оборачивается тошнотворным эффектом, и хотя все к простой аллегории здесь вряд ли сводится, она напрашивается сама собой. Максим, как и молодые люди поколения «Лимонки», потерял себя. Главная цель его, теперь муравьиного, сознания – «делать запасы», чтобы есть и «создать больше тепла», чтобы размножаться. В дневнике он пишет: «Это очень важно. Пока я это помню. Я – Максим», – и далее: «Меня уже почти не осталось. Их очень много во мне». Одержимость муравьями похожа на одержимость наркотиками, алкоголем, фанатическими идеями, которые перекрывают самость человека, подчиняя его себе. Тусовщица из рассказа И. Денежкиной «Дай мне», озабоченная лишь вопросами пола и времяпрепровождения, тоже не знает себя. «“Это кто?” – доверчиво спросил он. “Это я”. – “Ммм… А кто именно?” Тут я вспомнила, что имени моего Нигер не знает. Тогда кто я? Где я? Зачем я?»
Новореалистические мотивы «Переходного возраста» повторяются у модернистки А. Старобинец в нескольких текстах. К примеру, в рассказе «Я жду» герой также отъединяется от общества барьером отвращения. Он остается в пустой квартире один на один с кастрюлей из холодильника и с тем, что образовалось из заплесневевшего супа, отдающего дурно пахнущей женской материей. Пока люди в противогазах не вытаскивают его оттуда. Побег от людей к примитивной органике, побег в любой форме – почти во всех рассказах.
Темы потери, поиска, побега, перемещения, превращения (они есть и в «Эвакуаторе» Дмитрия Быкова, где всеобщая одержимость бегством из города перемежается с трансформацией спасительной ракеты в лейку) сигнализируют о нестабильности, а желание уйти (в загул, пьянство, мир иной) – диагноз всему времени. Персонажи молодой литературы сами это осознают, Диа (Эдуард) Диникин пишет: «Есть в жизни смысл. / Смысл ее – Не смерть! / Порывы низменны в себе умилосердь». Но одно дело понять, а другое – сделать, тем более что «порывы низменны» не только в тебе самом, они разлиты во всем поколении, во всей атмосфере. Nobody01, рассуждая в книге сплошь о неизбежности и естественности смерти (своей, всеобщей, цивилизации), одновременно подменяет, отсрочивает ее смежным, более понятным действием – путешествиями, сменой окружающего пространства. «Умирать страшно. И рано. И не за что. Так что пока можно ездить. Наверное, скоро я опять куда-нибудь уеду». В реалистическом романе «Они» Алексея Слаповского на мотиве побега (мальчика-попрошайки Килила из мегаполиса в деревню) завязаны все раскручивающиеся в нем коллизии, в которых действуют и подлые милиционеры, и твердолобые бизнесмены, и гнилодушные дети, и развратные женщины, и злые зацикленные старики, и кавказцы, один из которых тоже раздираем собственной двойственностью: с одной стороны, беженец из Азербайджана, «хачовская морда», с другой – интеллигент, удин-христианин, писатель.