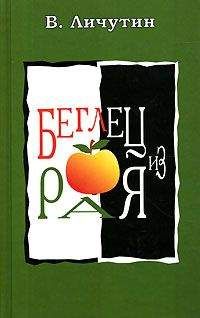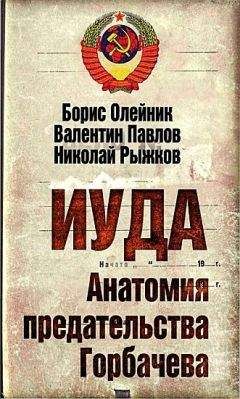— Праздник сегодня, а ты случайный гость. Хотя как знать… Будем по такому редкому случаю блины со сметаной есть. На сметану разорился, шампани припас. Милка шампань любит…
— Не рано ли? Как бы не спугнуть…
— Типун тебе на язык. Хотя запечатано крепко. Миледи родит, я ее приведу сюда хозяйкой. Станет она править, а я маленьким стану, сыночком ей, вторым сыночком, и она будет мне и матерью, и любовницей, и женою. А пока нет-нет, пусть и не молит. Пустую я не введу, Мне тошно будет, я вытеку весь. А сейчас я жду и, значит, живу. «И тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне…»
Ротман бредил, но взгляд колюче-трезв и испытующ. Он, как юрод, протягивал гостю розы с шипами, но каждый завиток цветка был как бы обтянут терновым венцом.
— Я знаю, ты хочешь что-то вызнать? Ты меня слушай. Слово — алмаз, в него смотреться надо, а не в самовар. Куда ни глянь, везде рожа на тебя. Так зачем же ты явился, Братилов? Ты, наверное, хочешь знать, отчего я стал евреем?
— Бред какой-то. Клиника, — бормотнул Братилов под ус, но Ротман расслышал.
— Весь мир — клиника. Ныне цинизм в добродетели, а ложь за правду, как в последний день мира.
Ротман был притяглив даже в своих откровениях; чем-то непонятно отпугивал, заставлял держаться настороже, все время ожидалось какой-то дерзкой выходки, и вместе с тем манил непонятным манком, дудел в свиристелку, как сполошливому рябчику, затаившемуся в кустах. И Братилов вдруг с ужасом почувствовал, что втягивается в его обаяние, как в болотную прорву. Пред ним был человек особого покроя, наверное, и особенных кровей и замашек, чуждых для Слободы, хотя деревенька, где родился Иван, отстояла от городка верст на пятьдесят. Но у тамошних было старинное прозвище — «дрыны с колоколами», ибо любил тот народишко чваниться и задирать нос, щегольнуть без повода. Даже высокомерие Ротмана, поначалу обидное, отпугивающее, заставляющее держать чувства в кулаке, уже принималось как должное от человека иного разряда.
Ротман расслышал колебания гостя и вдруг сказал, прочитав его мысли:
— Все мы люди, все мы человеки, да не всяк у Господа в гостях. — Он обернулся в красный угол к божнице и перекрестился. — Всякая овощь с грядки, да не всякая баба рождена на б…ки. Я, Алеша, без похвальбы скажу, птица высокого полета. А что тут пока обретаюсь, — он обвел рукою скудное житье, — так временно, крылья занесли. Душа живет где хочет, а человек — где может. Я и в Москве временно был, но с размахом: раскатись моя сторонушка. Многих там знавал, пиво-вино пивал: мной не гнушались, и я не сторонился, носа не задирал. Евтуха знал, Женю, свели с ним в одной компашке. Я про него на бумажной салфетке написал за рюмкою, тихохонько подал, без голоса: «Запел у Бога на виду и был отправлен в Катманду». Женя был в красном пиджаке, как попугай, там все перед ним на цирлах, да. Он прочитал и поначалу побурел, как вареный рак, я думал, его кондратий хватит. А после давай смеяться. Я думал, брюхо лопнет. Я и говорю: «Товарищ великий поэт, не смейтесь так, иначе брюхо лопнет. Кто затирать будет». Он и осекся, значит, я его в плохом свете выставил. Ну, я и добавил для перца, пьян ведь был: «Слепил себя под Ленина и стал как нототения, без всякого смущения присвоив званье гения». Он хотел было в меня из бокала плескануть, в Москве это модно: чуть что, сразу в морду. А вино-то дорогое, пожалел, значит, для моего рыла винца. А жаль. Я так умыться хотел. Потом говорит: «Пойдем драться на кулачках». Я говорю: «Пойдем». Хотя жалко его было. А что? Судьба, значит…
Ротман замолчал, на лице вылилась блаженная кроткая улыбка. Иван все время был каким-то разным, словно бы помазком с краскою невидимый кто водил по лицу и менял обличье. Плеснул на раскаленную сковородку половник теста, поставил на плиту:
— Ну, с Богом!
Блин со всех сторон охватило жаром, и он жадно попер румяным воздушным пузырем. Ротман ловко подхватил сковороду, брякнул донцем о разделочную доску. Воскликнул:
— Первый блин комом, второй стоном, третий с таком, четвертый с маком!
Ну и дела-делишки: первый же блинок — и не в комок. Пышкнул на доске и опал всею пластью, как бы испустив блаженный стон. Ротман окунул куропачье крылышко в разогретое сливочное масло и густо смазал, свернул конвертиком. Запел: «Кому стопу блинков, а мне бы девочку шашнадцати годков…»
— С пылу, жару, горяченькие… Навались!
— Да как-нибудь подожду, не с голодного острова… Ну а что потом-то? — повернул Братилов на прежний разговор. — Все-таки Евтушенко, не репей собачий. «Идут белые снега…»
— Потом суп с котом. С ним были высокие товарищи, подхватили его под локти да и в черную машину. Повезли на совещание в Политбюро, стихи читать… Ну все, не мешай. Включи-ка лучше глаз бессовестных. Я тебе мало лапши накрутил на уши, так добавят.
Телевизор был крохотный, с кукишок, но такой, дьяволенок, смелый, резал правду-матку на ясном глазу про все, что случилось с Россией, просвещал тупой сонный народ, и ни один, кто попадал в зрачок бессовестных, даже не икнул, настолько бесстрашно врал. Когда человек уверен, что его не заметут, не призовут к ответу, не прихватят за шкиряку, не повесят на фонарном столбе и просто не поддадут в морду за ложь, то он открывает себя в таких глубинах, что только подивишься смелости его; вот он, новый Матросов, что десятки раз, оказывается, кидался на амбразуру и уцелел. А кто спас его от смерти, кто зализывал раны — о том молчок. Да и кто призовет к ответу в стране бессловесных, ибо все отодвинуты от трибуны за бронированный щит…
Чем больше тускнел Меченый, лысел до загривка, превращаясь в жука скарабея, тем более лоснились его подельники, наливались самодовольным жирком и собольей шерсткой: даже взгляд-то стал с неугасающим огоньком, слова с присвистом, речи с протягом и многозначительными фигурами. Вот кто-то белесый, с тусклыми и вороватыми глазами, уже обильно хапнувший, предлагал поставить Меченому в Москве статуй из чистого золота и тут же сделал первый взнос в пуд благородного металла. Его сменил мертвенно-бледный и квелый, весь какой-то напудренный с головы до ног господин Шатров и предложил создать общество защиты генсека. Он не пояснил, от кого, но Братилов так понял, что от бесстыдной чеченки, что требовала гнать разрушителя из кресла и отдать под правый суд… Тут в бессовестном желтом глазу появился солидный экономист с видом старого облезлого осла, у него было глиняное тяжелое лицо и оловянный сонный взгляд. Ведущий пояснил, что это академик Абалкин, человек знаменитый; он двигал Россию к высотам в недалеком прошлом и сейчас намеревается спехнуть ее на новые рельсы, но что-то у него плохо получается, и сейчас, из ящика, он сетовал России на ее народ иль жаловался опекунам, что с ухмылкою посвященных слушали его за кордоном. Абалкин цедил драгоценные мысли: «Я не уверен, что нам удастся изменить что-то, ибо русские ленивы».
Братилов оценил его почти детскую искренность и злопамятность: в Союзе двести восемьдесят миллионов едоков, из них лишь треть русских, но ленивы, оказывается, не все, но именно русские. Услужливый скорпион ласково укусил гостя с таким видом, словно бы поцеловал ему руку: «Вы, наверное, чувствуете вину за застой? Вы же тогда были академиком, диктовали экономическую науку, как нам жить». Великий экономист ответил, грустно потупясь: «Вы знаете, я вины не чувствую. Интеллигенты очень стеснительны. Что мы могли сделать? И при всем том, что русский народ исторически ленив…»
Сыто, вкусно в каморе пахло блинами, дерзко, яро шипело постное масло, хлопалась о доску сковорода, а счастливый, наверное глухой, Ротман, розовощекий крепыш с младенчески чистым взглядом, сейчас походил на рязанского пасечника, отстоявшего летнюю вахту в липовых рощах и на заливных лугах по Оке. Такая задорная, искристая была у него рожа, и куда-то постоянная синева на скульях делась, уступив место ровному сытому румянцу.
Но, оказывается, этот блинщик все слышал маленьким волосатым ухом.
— Заметь, Братило, столько в стране оказалось правды, что ее невольно хочется продувать, как макароны — а вдруг там сидят жучки-паучки. И что я заметил: возле всякой перестройки всегда плодится муравьиная куча стяжателей; только каждый из них тянет не в общий дом, но в свою норку. И когда многие тянут, то некому ловить. Самое сладкое время для пройдох: если он голоден, то тянет для прокорма, если сыт, то тянет для потомства…
И тут в телевизоре появился духовный пастух политбюро, похожий на перестарка кабанчика: на взгляд было видно, какое у него жесткое, неуваристое мясо, только и проку, что, добавив сальца, пустить на котлеты. Александр Яковлев, ближайший друг генсека, был известен стране, словно народный артист, его любили, им восхищались; этот человек сталинской выковки, поспевший на ярославских хлебах, был жгуч в речах и сверкающ, как булатная сталь. Улыбчивые звероватые глазки, плюшевые бровки, детские ямочки на квадратных щеках так и просили кисти Глазунова. Яковлев пошевеливал собольими бровками, слепо смаргивал колючими глазками и сетовал родимой земле, вскормившей сына своего житенным караваем: «Наш народ невежественный, если хотите, даже темный: он далек от демократии».