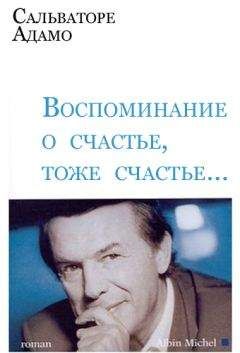— Оставь мсье в покое, не утомляй его своими глупостями.
Девушка продолжала, настойчиво глядя мне в глаза:
— Ты отказываешься от них? А я собрала их для тебя.
Не совсем уверенно, но я всё же протянул к ней руку и схватил предполагаемую розу; казалось мне тогда, что то была роза. Живущая на полном пансионе цветочница добавила: «Красивая, правда? Не теряй!»
Храню её по сей день и часто спрашиваю себя, а не разыгрывала ли нас та, кого принимали мы за полоумную, вызов бросая из своего, превосходящего наш разума. Я-то подыгрывал и в глазах её идиотом не представал, а может и… Чего она ждала от меня? Соответствовал ли я себе самому, внешнему? Не решила ли потом: чокнутый ведь он — цветок взял, которого на самом деле не было, я же взял его? Может, следовало ситуацию ту оценивать мне по примеру верных последователей Декарта, что есть мочи кричавших при виде всем набившей оскомину отсебятины типа восьмерки лошадей, караваном выходившую из-за одинокого кактуса: «Вот! Перед вами феномен искажения, то бишь сжатия пространственно-временного континуума!» Я же, смеюсь ли, плачу ли при том, остаюсь таки хорошим зрителем.
Что бы там ни было, а медсестра походя раздаёт указания: «Мишель, хватит рисовать. Женевьева, пора в койку». Детский сад… только возраст средний около двадцати с небольшим, втрое больше, чем следует.
Подхожу к палате Шарли — келья монашеская. Та сидит на койке, рассматривает фото. Попутчица моя поясняет, мол мать это ей принесла.
Шарли протягивает фото мне, улыбается снова и говорит: «С днём лоздения», и добавляет: «Олан». Я не понимаю, но это кажется мне и неважным.
Смотрю на фото. Снято поляроидом. Один из тех великанов, что носила Шарли. Кажется то была Бетье, школьница со светлыми косичками и в красной юбке. Рядом улыбающаяся Шарли, прижавшись к молодому человеку — длинные кудри, бородка «а ля мушкетёр». Вынужден признать: то ли Олан, то ли Ролан…
По возвращении, уже в машине, в сердце будто шуруп ввернули. От Розарио то не ускользнуло:
— Могу помочь чем-то, деревня?
— Не знаю пока, может быть. Подумать надо.
— Что, всё не просто?
— Да, уж покруче, чем ты думаешь, и сомнение во мне монументальное. Может жизнь обходится гнусно и со мной, раз насмехается над последней надеждой, за которую удалось ухватиться мне на дне пучины, куда я рухнул, раз делает из неё посмешище, рискуя обратить раз и навсегда в отраву, в последний роковой удар ножа.
— Ну, вот что, если фразу эту ты сам выдумал, тебе книги писать нужно.
— Да, хорошо, если только выживу.
— Хватит, слушай! Она поправится.
— Не сомневаюсь.
— Хорошо, а в чём проблема?
— Не знаю, ничего не знаю.
Всю дорогу, до самого Эн-Сент-Мартина, едем слова не обронив. Почти за норму принимаю и участие со стороны небес, будто из огромной корзины вываливших на наши головы крупные, с бильярдный шар градины. Неясно слышу лишь проклятия Розарио в адрес всех, рай населяющих святых, с Господом Богом, Иисусом Христом и Мадонной вместе взятых, отправленных под горячую руку, куда подальше.
В голове у меня полный сумбур. Нейроны, все как один, аж вспенились, замкнувшись на одном вопросе: «Неужто спутала она меня с этим своим задрипанным Арсеном Люпином?» Нужно было, чтоб в сердце воцарился покой. Я должен был выяснить, но выяснить что?
Пьеретта видела Шарли в Эн-Сент-Мартин первого ноября, с цветами. У кого день рождения в тот день? У меня! Ролан, он родился всё же не в один день со мной. Себе самому я чаще всего говорю, Бога мол нет, лишь бы не знать, что на столь бестактную шутку тот способен.
С вокзала ль, на вокзал ли шла Шарли?
А цветы? Их мне она несла или же они были ей подарены?
Но, если этот некто подарил букет, отчего же он ей позволил уйти пешком, одной, через неспокойный такой квартал?
Другой вариант: она хотела подарить тот букет кому-то, кого в тот день не нашла. Я же был дома… И кому ещё, кроме меня по всей округе, могла прийти в голову столь приятная мысль на её счёт?
Вот тебе и «с днём лоздения, Олан», чего же тут непонятного.
Розарио высадил меня на улице Кальвэр, перед светившимися уже витринами заведения Легэ.
— Чао, Жюльен!
— Розарио, можешь мне оказать одну услугу?
— Могу ли я тебе в чём-то отказать? У тебя вид приговорённого к смертной казни, а оставшейся жизни — час.
— Побольше, всё же. Слушай, ты адресок один не мог бы отыскать?
— Если, по крайней мере, имя точное даёшь и оно не какой-то в похоронной толпе встреченной девицы, с которой ты едва успел перекинуться голубизной в память навсегда врезавшимся взглядом.
— Прекрати, Розарио, речь о мужчине. Ролан… Ролан… Де… Дюпре… да, Ролан Дюпре, именно.
— А «жёлтые страницы» не смотрел? Знаешь, это очень просто: смотришь на Д, Дю, Дюбо, Дюбон, Дюбонэ, а потом и Дюпре.
— Спасибо, Розарио, телефонным справочником я пользоваться умею. Тип этот явно француз, точно с севера, жить должен недалеко отсюда, сомневаюсь только, что адрес у него официальный, потому как он скрывается и, должно быть, есть у него судимость. Знаю, Шарли наведывалась к нему в тюрьму Монса, его туда за неудавшееся ограбление упекли. Ушла она от него, как только стало о том известно, в апреле, три года тому.
— Хорошо, хорошо… чего желаешь знать о нём? Уж не пришить ли его собираешься?
— Да нет, мне просто нужна дата его рождения и, если можно, нынешний адрес.
— И всё? Ко дню рождения открытку отправить хочешь?
— Всё-то ты понял.
— Приглашаю тебя вечером, к тебе.
— Нет, не сегодня, у меня встреча с Франсуаз.
— Тогда завтра на работе…
— Нет, хотелось бы наедине поговорить, так что у меня, завтра, вечером.
— А ты один будешь?
— Дома я всегда один.
— А Франсуаз?
— Никогда ко мне не приходила, боится.
— Права она. И почему ты к ней не переберёшься?
— Об этом-то она и мечтает, но я у себя оставаться предпочитаю: столько здесь воспоминаний.
— Да ладно, не гони пургу.
— Это моё дело, Розарио.
— Ты и в самом деле чудак… И то правда, тебе же современное искусство нравится — все те гадости, о которых можно прочесть на стенах протухлого этого города, сглатываешь спокойно.
Вечером я, как и было объявлено мной Розарио, ужинал с Франсуаз. Столик заказан был ею в Локанда Гарибальди, итальянской траттории при бегущем в Манаж шоссе, в нескольких километрах от центра Святого Бернара, в котором несколькими часами ранее пришлось мне вновь увидеться с Шарли.
Воистину случаются денёчки, когда жизнь ваша пускается в пляс.
Франсуаз улыбчива, любезна, предупредительна была до тех самых пор, пока я под rigatoni ai quattro formaggi, на мой вкус всё же дрябловатое, не дал ей понять, что сегодня остаться у неё не смогу. Тут же стала она насмешливой, потребовала немедленно ей рассказать все новости о моём кузене с Сицилии.
На воскрешение в памяти алиби, ссылка на которое утром позволила отсутствовать мне среди дня, потребовалось несколько секунд.
— У него всё хорошо…
— Отчего же ты не привёл его с собой, ему что же, неловко?
— Ему с Розарио хорошо и полицейские истории он любит, вот и ужинает с ним. А спать ко мне придёт, не на улице же его оставлять, задерживаться потому не смогу; надо, хотя бы немного, о нём позаботиться и мне самому.
— Ну, конечно, понимаю. На десерт что-нибудь закажешь, Жюльен?
Себе она попросила одно маленькое zabaglione, один кусочек torta di mandorle и ещё tiramisu.
Я посмотрел на неё недоумённо:
— Но, Франсуаз…
— Что, мой маленький Жюльен? Нужно же чем-то всё компенсировать.
— Будь же, наконец, благоразумной…
— А ты, ты-то таков, мой Жюжю? Пренебрегаешь мной тени ради, воспоминания для.
— Да о чём ты?
— Ладно уж, Жюльен. Не продолжай, не то совсем запутаешься.
И, взвизгнув да охнув при виде в линейку выставленных перед нею метрдотелем Джузеппе всех трёх десертов, сознавая при том всю пародийность собственной схожести с приютским дитя, пухлое это создание свои полные слёз глаза опрокинула в мои, отбросило вилку и, запустив в пирожное пальцы, принялось обжираться.
Мне стало стыдно. Не за неё — за себя. А что мне оставалось, честным быть? Я пытался… не захотела она понять. Сноровисто упаковала меня, да в мою же мнимую любезность. Не могла, верно, догадаться обо всех тех планетах, что таскал я за собой, и которые тяготели ко мне, а уж о той, на которой я в тот момент находился, менее всего. В полной наивности слушал я её и улыбался тому, как она чего-то ждёт, чем и обезоруживал. Мы являли собой два прислонённых, никогда не переплетавшихся одиночества. Да, так оно и было.
Высадила Франсуаз меня на въезде в Сите.