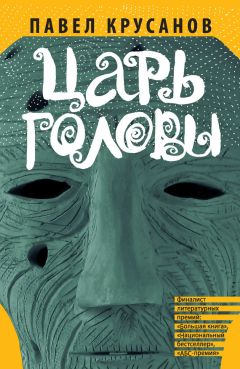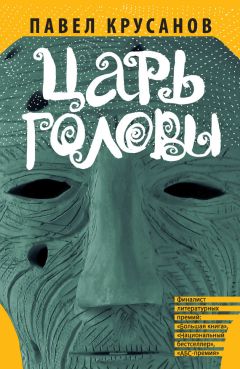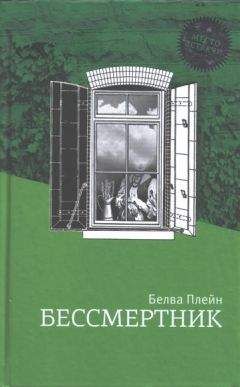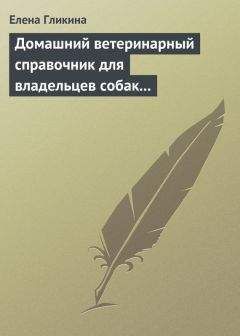В первое мгновение полёта Исполатев почувствовал растерянный сбой сердца, словно он долго сидел в грохочущей электричке, а она вдруг вылетела из тоннеля на сияющий простор. Мгновение никак не кончалось. Оно вытянулось в звенящую серебряную нить, предметы и люди раздвоились, будто вышли из своих рам, воздух пожелтел и сгустился, сам Исполатев тоже отделился от саркофага, во всех мелочах повторяющего его физику, и повис над креслом, пронзённый струной остановившегося времени. «Да, истина вещей двуглава, как греко-русская птаха, – подумал Пётр. – Наверное, я умираю». Но тут струна оборвалась, и время дало о себе знать испариной на лбу и ватным гулом скачущего на крыле мотора. «По верху копнёшь – смерть неизбежна, – перевёл дыхание Исполатев. – Возьмёшь поглубже – смерть невозможна. И то и другое гнетёт человека».
Далеко внизу, брошенная на взлётной полосе, бежала за самолётом собственная тень. Далеко внизу погружалась под дымку облаков русская Атлантида. Шептался и дремал в алюминиевом ковчеге уцелевший народец.
8. Звезда Полынь души моей
Но снова ночь благоухает,
Янтарным дымом полон Крым…
К. В.
Симферополь ослеп от солнца. У автовокзала за самодельными прилавками бабки в грязных кофтах торговали семечками, постным маслом, гороховым самогоном и купонами самостийной Украинской республики.
Ни в самолёте, ни по дороге к автовокзалу Жвачину не удалось потеснить Шайтанова в борьбе за яркие губы поэтессы. От смелого художника Шишкина и его медведей разговор спустился к беспозвоночным – к синеглазым мандельштамовским стрекозам и мохнатым пчёлам-поцелуям. Жвачин не любил насекомых, к тому же грузовая палуба авиалайнера вернула хозяйке её тяжёлые сумки. В сумках – выудил Алик из щели в зоологической беседе – был нарзан: крымская вода известковая, и водопровод работает, как сторож, сутки через трое.
Исполатев и Сяков, не торгуясь (продавца такой аристократизм обидел), купили бутылку перламутрового самогона. Высоко над Симферополем парил серебряный ангел забвения, вилась за ним белая реактивная кудель.
Худощавый распорядитель нанял троллейбус до Ялты.
Тишком подступила и ушла нестрашная Долина привидений, сверкнуло море, выгнула горб и скрылась опившаяся дурной зелёной воды гора Медведь, в безлистных садах, похожих на какой-нибудь сатурнианский рай, цвела напропалую черешня и алыча. Ароматы степи и садов заглушал в троллейбусе запах гуляша – на переднем сиденье молодой писатель с трудоёмко закрученным вокруг шеи шарфом ковырял в термосе домашнюю пищу.
– Освежающего? – предложил Сяков.
Открыли бутылку. Минеральная поэтесса протянула Шайтанову апельсин.
Первый ялтинский день, начавшись с привкуса распаренного гороха и с раскрытого цветком апельсина, неудержимо, с подскоками, кручением, рискованным креном, точно эйзенштейновская коляска, сорвался и понёсся к закату.
После пешего подъёма в гору, внезапно и сразу возник перед глазами белый корпус литфондовского Дома с проветривающимся на балконе второго этажа малиновым ковром. Дежурная дама записала в журнал фамилии и выдала ключи, прикреплённые к номерованным лотошным бочоночкам. Исполатев с Шайтановым и Сяков со Жвачиным получили на разных этажах по семейному двухкомнатному номеру с кроватями, балконом, холодильником, местным телефоном, ванной без воды и письменным столом для вдохновения.
Через пять минут, оставив в номерах вещи, вновь встретились в холле первого этажа и, окрылённые мутноватым вдохновением горохового самогона, бодро направились в распластанный под ногами город.
Собственно, только тут и началась Потёмкинская лестница, по ступеням которой поскакал день: пестрит не июльская, но всё же людная и солнечная набережная, там и сям машут триумфальными листьями пальмы, вяло топчется очередь за живой рыбой, у пристани кистепёрым реликтом застыл прогулочный катер «Леонид Брежнев» – безымянное кафе, лишённое окон, адским мерцанием подсвеченное, голодные приятели пьют горькую настойку «Любительская» и размышляют: стоит ли искать другое место (из закусок здесь лишь яблоки и лущёный арахис) или следует взять ещё «Любительской», чтобы отбить аппетит? – врата ресторана «Ванда», синеблузый, вымогающий чаевые швейцар, овощной салат (витамины), шипящие колбаски «по-ялтински», водка и с рюмкой в пальцах рассуждающий Шайтанов: друзья, взгляните на эту титаническую вазу в углу и вдумайтесь – не есть ли подобная декоративная посуда предвестие поп-арта, смысловая и культурная предтеча лакированного американского штиблета, пригвождённого к холсту? – речь Алика уже наперчена нелепой массой вводных слов, к его чести, в большинстве нормативных: «это самое», «как его» и лишь изредка «на х. й» – зал ресторана «Восток», где Жвачин вовремя пресекает, чреватую скандалом, попытку Шайтанова засветить хамоватому официанту в рыжий глаз, ветчина, жёлтая старка, четыре жульена и снова старка, чутко колышутся лиловые занавески, магнитофон за каким-то бесом ноту за нотой вытягивает из кассеты модное в этом сезоне «Любэ» – имперский лоск «Ореанды», Сяков, Жвачин и Шайтанов, как Сталин, Рузвельт и Черчилль, сидят на террасе отеля с бутылкой белой «Массандры», Исполатев в компании трёх сеульских корейцев хвалит японский флаг: супрематический шедевр и экуменический символ плодородия, как его ни расценивай – жизнедарящее солнце или брачная простыня – канатная дорога, в гремящей металлической кабинке тесно, кабинка неспешно плывёт над цветущими деревьями и черепичными крышами, засеянными окурками и стаканчиками из-под мороженого, за городом светится зелёное море, банда ялтинских мальчишек, галдя на пыльной улице, расстреливает кабинки фуникулёра из рогаток – некая культовая архитектура на вершине горы, священнодействует над раскалённым мангалом прокопчённый служитель с фиолетовыми черничинами глаз, «Весь тук – Господу, – напоминает служителю Исполатев. – Господь любит обонять тук жертв своих!» – «Зачэм нюхать? Кушай, генацвале!», несколько порций шашлыка зажаты между бумажными тарелочками, в стаканчике густо краснеет соус, Сяков, отчаянно превозмогая вестибулярное расстройство, ведёт отряд сквозь кипарисовый лесок на склоне горы к литфондовскому Дому.
Потом коляска-день, совершив немыслимый подскок с переворотом, выронила Исполатева на неизвестном этаже, где в пустом холле бормотал телевизор. После Пётр очутился в тёмной, ракушечником выложенной пещере, с трубкой междугородного телефона в руке. Номер Жли он набрал на ощупь.
Уехала? Нет, вы не знаете меня. Учились вместе в институте. Имярек. Хотел ей предложить одну работу. Ей нужно бы практиковаться в языке… Хотя бы в птичьем. И надолго? Да, вы правы, и это в каждой дочери сидит – с подругой, скажет, на неделю, а вернётся недели через три и с токсикозом… Какие шутки! У меня у самого есть дети. Трое. А может меньше. В этом вы ошиблись… И басня не права… Вот, что скажу вам: муравей – трудяга, хлопотун, строитель, это верно, а стрекоза, естественно, – глазаста, ветрена и с роем лёгких от богов идей и мыслей, это тоже верно. Так устроен мир. Да, отчего-то в муравье нет песни, а в стрекозе – желания построить муравейник. Их уравнять нельзя, их разными такими создала природа – она умней и муравья, и стрекозы, и Лафонтена. Что ещё за чушь!.. Прошу простить за резкость, но зачем вы разбудили тень Фурье и тень фаланстера его? Не надо менять им род занятий, а не то трухой осядет муравейник и наполнит скрежет песню… Я же говорил – природа всех умней, она сама их роли в поколеньях поменяет. Нет, влияние моё на вашей дочери ещё сказаться не могло. Я рад, что этой кратковременной беседой шлифовщика стекляшек вам напомнил – Спинозу бедного, – признаться, не читал ни строчки из него. Жетон последний… И вам всего того же.
Потом был двухкомнатный номер Исполатева и Шайтанова. На балконе, куда перенесли журнальный столик со стульями, Алик показал, как студенты биофака разделывают на своих пестринках кильку пряного посола. Вскрыв привезённую банку, он объявил:
– Лакомство российского студенчества в красные дни календаря – килька «по-чёрному»!
Шайтанов выудил узкую рыбёшку и с размаху швырнул её в торцевую стену балкона. От удара из кильки с писком вылетели кишки, а сама она, как серебряный плевок, расслабленно повисла на стене. Шайтанов налил в стаканы «Любительскую», снял с белёной стены закуску, выпил и, придирчиво оторвав голову, с улыбкой рыбёшку проглотил. Жвачин, Сяков и Исполатев тоже взяли по кильке. С первого раза получилось только у Жвачина. Шайтанов сказал, что знавал мастеров, которым удавалось так же управляться с селёдкой.
Потом пели арию варяжского гостя и ели шашлык под горькую настойку. Сяков пытался выползти из номера, чтобы познакомиться с порядочной девушкой, но заснул на паласе в прихожей. Жвачин с закрытыми глазами долго плясал на балконе какой-то кубический, под Пикассо, танец. Шайтанов без объяснений упёрся лбом в холодильник. А Исполатев в странном тревожном забытьи стрекозой поднялся к чёрному небу, из которого звёзды, как обойные гвозди, осыпались в море.