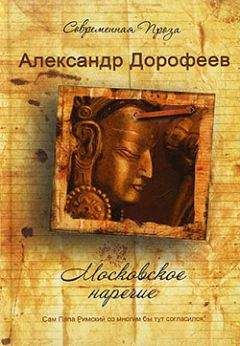«Но труд всей моей жизни еще не окончен, – призналась Урсула. – Это модель чистилища»…
Работая над ней, она сказочно разбогатела, запатентовав как побочный плод машину по переработке мусора. Тогда же купила дюжину гектаров мексиканской земли, на которой построила умный дом. Более всего многомерностью и неописуемостью он напоминал то, что явилось когда-то пророку под видом Славы Господней.
Треугольный, но в то же время колесообразный. Да разве расскажешь о нем лучше Иезекииля – вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе… И крылья его сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому… А над сводом… было подобие престола по виду как бы из камня сапфира… И сияние было вокруг него…
Увы, слишком умный этот дом имел склочный характер. Невзлюбил Туза – выпирал где ни попадя порожки, уклонял ступеньки, отключал свет под носом и не откликался на голос. Ущемлял то остановкой эскалатора, то внезапным закрытием двери по лбу, то кипятком из душа. А на стене кинозала вспыхивал время от времени зловещими письменами – мене, мене, текел, упарсин! Похоже, он считал Урсулу своей невестой. По-испански дом – «каса», а женитьба – «касамьенто», где привесок «мьенто», означает не что иное как образ мыслей, желание и волю. Короче, по своей программе дом желал хозяйку, а Туза хотел спровадить куда подальше.
Несмотря на пристрастие к технике, Урсула искренне любила все живое – особенно мелких форм и сатанинского облика. В саду среди плодоносящих фиг веселились сплошь карликовые – гиены, долгопяты и щелезубы, муравьеды и броненосцы, летучие вампиры и черные ревуны, мангобеи и краснозадые мандрилы, электрики, ветеринары и собственно садовники.
Не говоря дурного слова, Туз избегал этот вертоград. Но во время солнечного завтрака в беседке, когда руконожка-сын Уй-уй залез длинным пальцем ему в ухо, добравшись до среднего, не стерпел и высказался о рае в шалаше и адских дворцах. Урсула, кажется, не поняла намека, но произнесла загадочно, будто с подарком за спиной: «Ад в пятом измерении, а рай сразу в двух – в шестом и седьмом. О них достаточно сведений, а вот чистилище – место темное во всех смыслах. Что ты знаешь о нем?»
«Ну, открыто около семи столетий назад Дантом, – задумался Туз. – Там вроде не так уж плохо. Хотя, наверное, скучно, серо, однообразно»…
«Общие места, – поморщилась Урсула. – Я уйму денег пожертвовала Ватикану на исследование чистилища как четвертого измерения. Там обитают души животных. Всегда надеялась успокоиться среди моих зверушек. После смерти любимого лапундера уже намылила веревку, но заглянула напоследок в свежую газету. Представь, что я узнала, – церковь отменила чистилище как загробную сторону света! Упразднили, козлы, решением собора. Я была в бешенстве, но вскоре поняла – Ватикан близок к истине. Чистилище здесь, в этой жизни. Пройдя ее до половины, я очутилась в сумраке, – сделала она значительную паузу. – То был климакс! – И тень дурных воспоминаний скользнула по челу. – О, как там скверно! Но ты вывел меня по лесенке. Ах, эти спуски и восхождения! – прикрыла глаза и выпростала из-за спины руки. В одной был марципан, в другой – отбивная. Не взирая на солнце, немедля их проглотила.
«Наверное, это самое значительное, что совершил я в жизни», – размышлял Туз. Впрочем, этим его дары не кончились.
С первого дня в умном доме он чувствовал себя неловко, будто где-то чего-то чесалось. А после взгляда на модель тоски зуд окреп, и при внимательном осмотре обнаружился один из упомянутых стариком Гией «неприятных сувениров» – «мирские захребетники», как говорили в старину, весьма гнусные твари. Когда-то давным-давно они уже гостили пониже живота. Тогда близ буддийской ступы он спал в чужом мешке, пил часто и редко мылся в арыках, так что вернулся домой, как говорят латины, «мальакомпаньядо» – в плохой компании. Кто знает, чем занимались эти существа в Каракалпакии на развалинах древнего Хорезма? Возможно, поджидали именно Туза. Или переметнулись от Мими на память? В пустыне вели себя мирно, а в Москве, не понимая, куда их занесло, начали зверски кусаться. Истребить удалось, сплошь побрившись и едва не спалив себя керосином.
Слово керосин воскресило беседу с Кончитой о важной основе «кер». Но Туз отмел подозрения. Больше занимало, какой они породы – шпанские, галльские или нидерландские? По безбожности укусов, скорее всего, из Амстердама. Ну, коли обычные вши заводятся от тоски и неуверенности, то по какой же причине лобковые? Может, от чрезмерного веселья и национальной неопределенности? И пока ломал голову, Урсула неистово, припадочно зачесалась – приседала, подтанцовывая и крутясь на месте, будто за хвостом. Точно как сенбернарша у знакомых. И смех, и грех. «Ничего веселого! – мрачнела она. – Что за напасть такая?!» Туз уже собирал пожитки, но, разглядев все через лупу, Урсула умилилась до слез: «Пьехос де пубис! Малютки! Чуть больше миллиметра, а живые. Тут у меня для них вселенная»…
«Что значит имя, – подумал Туз. – Пьехос де пубис! Хоть поэму пиши. Услыхала бы по-русски, так не радовалась бы». И предложил, если нет керосина, применить для пробы бензин. Вот когда Урсула всерьез разгневалась. Все-таки умудрился вывести не только из климакса, но из равновесия вообще. «Асесино! Убийца! – всхлипывала, снимая площиц пинцетом и бережно пересаживая в хрустальную бонбоньерку, – Откуда такая жестокость?! Неужели все русские таковы?» Тем же днем заказала уютную банку из увеличительного стекла, чтобы наблюдать за их частной жизнью. Хотя Туз сомневался, перенесут ли малютки разлуку с лобком. «Хорошо, что чистилище вовремя прикрыли, – думал он. – А то, глядишь, и там бы встретились»…
Ой, да признаться, все это – грубая шутка! Ну, почесались на нервной почве. А «мирские захребетники» понадобились только для того, чтобы в ряду великих слов с тремя буквами «к», «е» и «р» заслуженно помянуть керосин… «Керидо! Дорогой! – растолкала среди ночи Урсула. – А чем же их кормить? Может, есть сухой корм в магазинах?»
Конечно, она была гениальна, со всеми последствиями. Явно исповедовала буддийскую ахимсу – непричинение вреда живым существам. И Туз очень надеялся, что купит самого Будду на мусорные деньги, хотя бы из благодарности за новых питомцев, не говоря уж об избавлении от чистилищных уз. Но Урсула нежданно обиделась, сказав, что не предполагала такую корысть в русских. Честно говоря, Туз и сам дивился, обнаружив признаки корысти, поскольку после отказа заметно охладел к Урсуле.
Завершилась сорокадневная кварезима, шутки кончилис, ь и отношения разладились. Он подолгу плавал в океане и гулял по длинному выгнутому дугой пляжу, где сновали крабы, ступали пеликаны и выползали из прибрежных зарослей под солнце игуаны, стремясь насытиться открытой пастью праной. Ах, как ритмично накатывали волны, рождая поэтический размер.
Пляж пресекала выступавшая в океан скала, под которой виднелась убогая хижина. Хотелось дойти до нее, но Урсула, приглядывая с балкона, возвращала трубным сигналом, вроде пароходного. «Ничего интересного в этой чосе, – кивала потом в сторону хижины. – Живет одна моя кузина. Да не совсем кузина, а так называемая»…
Но день за днем Туз уходил все дальше. Урсула начала новую модель «меркантилизм» – нечто бесформенное из песка – и не успела или не захотела остановить его вовремя.
Туз сам присел в раздумье, не повернуть ли обратно, чтобы оставить по себе на память хоть что-нибудь хорошее. Да, пожалуй, все, что мог, уже предложил. А Будда звал в дорогу.
Туз брел по бесконечному пляжу с рюкзаком и Буддой за спиной. Тяжелые ботинки для среднерусского туризма увязали в песке. На ум пришла критическая плотность, а за ней темные галактики и черные дыры – схлопнется наша вселенная или будет бесконечно расширяться? Неисповедимы пути! Но ему под ноги ложились пока торными дорожками.
Место называлось Папаноя, и Туз припоминал, кто же был папой Ноя – Мафусаил, что ли? Да нет, этот – дедушкой, а папой – Ламех, проживший срок в три семерки – «777» – как портвейн.
Ближе к вечеру достиг тростниковой хижины под пальмовой крышей. У входа, занавешенного ковриком, стоял трехколесный велосипед с прицепом и лежали три игуаны со связанными веревкой лапами. Все говорило о тихой допотопной жизни.
Коврик чуть колыхнулся, и явилась индианка в белом платье, расшитом красными цветами по горлу, рукавам и подолу. Лицо ее было недвижно, словно букет садовых лилий. Она встретила Туза примерно так же, как пятьсот лет назад Монтесума конкистадоров, сочтенных им богами, – почтительно, но без восторга.
Испанский был для нее чужим, и понимали они друг друга не очень хорошо. Поедая запеченную для него игуану, Туз все же уяснил, что она из ацтеков, а имя ее – Кальи означает – дом. Ей принадлежало четверть акра кокосовых пальм и роща папай. Жила одна. Охотилась с рогаткой на игуан, ловила рыбу уачинанго и била палкой диких индеек, из перьев которых мастерила плюмажи и веера. Из пальмовых листьев плела сомбреро, а огромных жаб, скрежетавших ночами в прибрежной сельве, превращала в безмолвные кошельки. По утрам, снарядив трицикло, выезжала на большую дорогу, ведущую от Акапулько в Нижнюю Калифорнию, и торговала на обочине.