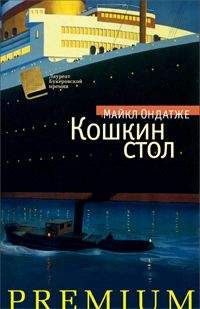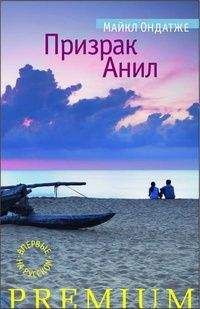— Среди этих произведений чувствуешь себя в безопасности, верно?
Мы с Хорасом находились в зале Капоне, в окружении фресок; я вдруг поняла, что он обращается непосредственно ко мне. А я проработала у него уже больше месяца, но он ни разу не обратил на меня внимания. Рука его вытянулась, будто он хотел выхватить нарисованную птицу с голубого небесного свода.
— Искусство не бывает безопасным. Все это — лишь один чуланчик в большой жизни.
Я не ожидала такой пренебрежительности от человека, который якобы любит искусство.
— Пойдемте со мной.
Он бережно, точно взял меня за локоть — вроде как общественная мораль не воспрещает трогать эту часть тела и, соответственно, присваивать до определенной степени. Он повел меня по вестибюлю, и скоро мы оказались в Большой ротонде, где висела двадцатиметровая шпалера. Он приподнял край и отогнул, чтобы я могла разглядеть изнанку: там цвета оказались неожиданно яркими и мощными.
— Вот где настоящая сила. Всегда. С изнанки.
Он отошел от шпалеры и встал в центре круглого зала, зная, что голос его разнесется по периметру и поднимется к высокому куполу.
— Сотня женщин, а может, и больше, трудились над этой шпалерой целый год. Они боролись за право получить эту работу. Шпалера давала им пропитание. Она не позволила им умереть фламандской зимой тысяча пятьсот тридцатого года. Вот откуда глубина и правдивость этой сентиментальной картинки.
Он молча дождался, пока я подойду к нему.
— Так скажите мне, Перинетта, — вас ведь зовут Перинетта? — кто автор этой работы? Сотня женщин с замерзшими растрескавшимися руками? Мужчина, придумавший эту сценку? Настоящий автор — дата и место.
В те времена определить автора можно было только по месту рождения или по месту, где он закончил свою карьеру. Половина великого европейского искусства создавалась в городах. Взгляните сюда — увидите клеймо города Уденарда. Но разумеется, нужно еще учитывать, который из Медичи приобрел ее, потратив годовой бюджет небольшого государства, привез ее в Италию — за тысячу миль, под защитой стражников и шпионов…
Под такие его речи я готова была скользнуть в его подставленный карман. Когда он заговорил со мной впервые, я была очень молода. Дело в том, что мужчины, наделенные такой властью — опирающейся на богатство и знания, — считают вселенную своей собственностью. Из этой уверенности и проистекает их красноречие. Однако такие люди склонны запирать перед вами двери. В их вселенной всегда существуют шифры, комнаты, вход в которые заказан. В их повседневной жизни всегда где-то стоит чаша с кровью. Он это прекрасно знал. Хорас Джонсон понимал, на какого зверя охотится. С таким знанием всегда приходит жестокость. Я тогда не имела об этом понятия. Уж всяко — в тот полдень, когда он привел меня, придерживая за локоть, в ротонду и той же рукой приподнял край шпалеры, будто задрал юбку служанки, — и открыл мне изнаночное многоцветье.
Я продолжала жить в этом мире трех времен года и вскоре обнаружила, что мне уже не уследить, куда ведут дорожки, которые я сама для себя выбрала. Я не знала, какие ловушки и рвы существуют в мире богатых. Не знала, что люди вроде Хораса даже к тем, кого любят и кого хотят видеть рядом с собой, относятся так же, как вынуждены относиться к врагам: отводя им место, с которого те не смогут нанести ответный удар.
Если прийти в Сиене на угол виа дель Моро и виа Саллюстио-Бандини и взглянуть вверх, вам предстанут строки Данте из «Чистилища»:
И он в ответ: «То Провенцан Сальвани;
И здесь он потому, что захотел
Держать один всю Сьену в крепкой длани.
А там, где виа Валлероцци пересекает виа Монтанини, в желтом камне высечено:
Не мудрая, хотя меня и звали
Сапия, меньше радовалась я
Своим удачам, чем чужой печали.
Понимаете ли, там, где сосредоточена власть, победу одерживает не тот, кто берет верх над соперником, а тот, кто способен не позволить врагу — или врагине — достичь желаемого.
Однажды в Рождество устроили бал-маскарад для сотрудников, и я вдруг обнаружила, что Хорас описывает вокруг меня круги по полупустому патио. Я оделась Марселем Прустом — спрятала светлые волосы, наклеила тонкие усики, набросила накидку на плечи. Может, это его привлекло? Позволило скрыть его подлинные намерения?
Он спросил, не принести ли мне чего-нибудь.
— Ничего, — ответила я.
— А как вы отнесетесь к танцу по главным городам Европы?
Я рассмеялась.
— У меня есть комнатушка, обшитая пробковым деревом, — ответила я. — С меня довольно.
— Понятно. Тогда позвольте нарисовать ваш портрет. Вот в таком виде. Вас когда-нибудь рисовали?
Я ответила, что нет.
— Можете еще надеть этот ваш зеленый шарф.
Вот так это все и началось — я вошла в его сознание, одетая мужчиной. Знаете, полагаю, в одном из подвалов этой виллы до сих пор лежит мой портрет. На этом портрете, так, надо думать, и незавершенном, я полностью одета — после акта любви. Хотя вид у меня смиренный, будто у нескладной наследницы-провинциалки или невинной дочери какого-нибудь друга.
Разумеется, это он был той фигурой в окне верхнего этажа, которая наблюдала, как я каждое утро еду на велосипеде на работу. Он не спеша вычислил меня. И теперь двигался в том же неспешном темпе. Работу над эскизами прерывал бесконечными разговорами: он был кладезем знаний о тинктурах, хореографии фресок, величии алебастра. А я, дабы помедлить у порога этих отношений, первые несколько дней не снимала прустовские усики, так что, здороваясь со мной в студии, он обнимал и целовал меня через них. Я несколько дней проносила их в его обществе, забыв про них за разговорами, за рассказами историй из моей юности. Все эти сведения, как во сне, я вылила в чашу его ненасытной любознательности.
Он был столь же мудр, сколь и умен. Он заручился моей дружбой. Он был старше, а в зрелом возрасте повадка иная, так сказать более галантная — хотя бы с виду. А молодого любовника, дабы провести сравнения, у меня до того не было, — собственно, и вообще не было никакого любовника. Все произошло будто само собой и стало скорее продолжением разговора, чем физиологическим откровением. Он снял с моей шеи зеленый шарф, когда я вошла в студию, а потом, в немыслимо жаркий августовский полдень, предложил зайти дальше. Крошечный шажок. Возможно, подействовали магия его слов и мое образование. Я научилась прилаживать к нему свою обнаженную спину, я шагнула за пределы того, что поначалу казалось одной лишь болью, и постепенно даже это стало привычной частью нашего влечения.
Я, разумеется, знала, что все это в рамках традиции. Но тогда я будто бы шагнула в удивительною страну — бредовую, ошеломительную, полную вкусов, которые нужно было распознать и прочувствовать. А потом я бродила по прекрасно обставленной студии, моя кожа, моя «тинктура» остро осязала ветерок, проникавший сквозь открытые жалюзи. В одних носках я бродила кругами и тенью руки прикасалась к ранним, целомудренным наброскам, которые он сделал поначалу. Часто мне начинало казаться, что в комнате я одна, как будто он не смотрел на меня, не насыщался моим присутствием, — и тогда нечто в комнате раскрывалось, будто бы впервые. Я барахталась в этом настое знания и влечения. Тяжесть его руки, тяжесть всего его тела, мой голос на фоне голоса моего любовника — довольно лишь чуть-чуть подсветить плечо на картине, чтобы обозначить горе или тайну, как близко к краю стола поставил Караваджо эту чашу, чтобы создать напряжение — вот — вот упадет.
Уже миновал полдень, а я все читал письмо Перинетты Ласкети, ловя отблески иных времен, подробности прошлого, что все еще теплились в ее памяти. Столь интимное и надрывное письмо, совсем не тот голос, которого я ждал: казалось, она обращается к воображаемому читателю.
Там-то и возмужал мой дух, в чердачной студии над виа Паникале, где на всем протяжении нашего преступного часа вызванивали колокола — будто отзывая тех, кто ушел в атаку. Он смотрел, как я склоняюсь над ним. Смотрел через мое голое плечо, когда я листала тяжелые альбомы по искусству. Подняв глаза, я видела отражение нашей общей картины в зеркале и вспоминала похожий момент: его сын читает на большом диване в зале Капоне и Хорас — в ипостаси отца — стоит у мальчика за спиной и смотрит на него. Мы были очень похожи, мальчик и я: один и тот же отец распоряжался обоими.
Знаешь, почему в тот день на «Оронсее» я пригласила тебя к себе в каюту вместе с твоим кузеном? Я наблюдала за тобой во время плавания, и мне стало страшно: тебя, похоже, тоже втянули в нехорошее дело. А я-то знала, как просто это случается и куда ведет. Но уверенности у меня не было. Так что я заговорила не с тобой, а с твоим кузеном, предупредила его насчет барона. Что я не до конца понимала — или знала — в тот день, так это что из вас двоих в настоящей опасности как раз ты. Я кинулась защищать не того ребенка. Как я могла этого не увидеть?