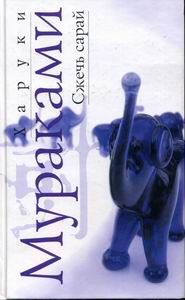Варшава была напоена нездешностью, десятилетиями настаивавшейся, томившейся, как в духовке, под кованым на Механке колпаком, накрывшим шестую часть суши. Даже сталинская разлапистая высотка и жилые совковые цеха, удалявшиеся от ее подножия (поаккуратней наших, но с этим к товарищу Молчалину), торчали восхитительной неуместностью в хоре вызывающих блаженную щекотку имен:
Маршалковская, Уяздовые аллеи, Новы Свят, Краковское Предместье,
Жолибож… Молчат магнатские дворцы – лишь Пан Мороз бряцает шпорами, которым едва слышным теньканьем отзываются сгрудившиеся во тьме забытые бокалы: Браницкие, Красиньские… Повстанцы спускаются в тротуар к Анджею Вайде, приземленный Прус на обочине, возвышенный Мицкевич под сетью нагих ветвей, коренастый хохол Монюшко у подошвы неохватного многоколонного театра – шершавы ли у него лацканы? Ложка пользы на бочку поэзии… А вот и ясная площадь размером с хорошую театральную сцену, вокруг которой Головин или Бенуа соорудили дивную декорацию, – не может же это быть…
Но это было. Пятки под собой не чуя, легчайшей поступью, чтобы не спугнуть, не расплескать что-то в себе или в мире, я прошел сквозь мраморный портал общественной уборной, чтоб ничто уже не стояло между мною и тем Неведомо Чем, которое проглянуло сквозь…
Фронтончики, наличники, сграффито, лепка, резьба, чеканка, ковка
– невозможно поверить, что все это только что было кирпичным крошевом, размолотым столкновением двух фантомов, – и вот все до мелочи восстановлено – при паскуднейшем коммунячьем режиме, простыми в массе людьми, а гениальные гримеры снег, дождь, ветер только прошлись трещинами и облупленностями – печатью подлинности. Адский коктейль из горя, любви, пропаганды, корысти, насилия, энтузиазма, глупости, мудрости, ремесла, этот нектар с навозом сотворил чудо. Так, может быть, это я, я сам -
простой человек, желающий из неисчерпаемой сложности выстричь бездействующий, зато лакированный муляж чистой культуры?
Безмерную тяжесть мира едва может выдержать предельное напряжение всех жил потрескивающего исполинского каната, а я хочу его расплести, чтобы свить изящный разноцветный шнурок. Мы вечно обращаем сносное в невыносимое, выдумывая что-то прекрасное и невозможное. Может быть, вовсе и не пустота, а мечта о несбыточном высосала из жизни сок смысла?.. Хотя его можно найти только во всем сразу.
“Барсук, пан, барсук”, – услышал я из крепнущей мглы. Наш торговый флот дрейфовал в полном составе, только хлопцы с лопатами пошли на дно. Пожарным багром подтянул свою оборотистую подружку к берегу – было раскуплено почти все, кроме клопомора,
– даже ведра забрала какая-то школа, а я уж думал, придется открыть им кингстоны – и в Вислу. Под покровом сумерек мы решили забросить наживку и на ловцов контрабандного алкоголя – принялись по очереди потягивать стограммовый коньячок; на его золотой огонек потянулась и подвыпившая публика. Этот для провокатора вроде бы чересчур бухой… зато тут же, без отрыва, начинает булькать из горл б – демаскирует, гад… “Уходи, пан, уходи”, – словно на гуся, машет на него моя сообщница и, как бывалая буфетчица в шалмане, за рукав оттаскивает в толпу. У кудахчущей пани она берет сумку и под моим прикрытием пихает туда бутылку. Пани, решив, что русские ее грабят, ударяется в крик: “Торбу, торбу!..”
Все хорошо расторговались. “В казармы, в казармы!” – слышится социалистический призыв рыночников: до казарм можно пешком. А как же пан Мачек с автобусом? Моя благородная возлюбленная собирает компенсацию. Трое принципиальных еще более благородно негодуют: вам надо – вы и платите… За них мой идеал добавляет мою недельную зарплату и улыбку, от которой мужики начинают неудержимо таять. На принципиальных паскуд она не сердится: устали, мол, замерзли… Так что ж, мы – вараны: охладимся – сволочи, а положить на батарею – опять приличные люди? Да, наверно, без нитей жадности, бесстыдства канат не выдержит, но… Если роза растет из дерьма, терпеть его я могу, но мазать на хлеб все равно не стану.
Но все же мосластый, до зелени ужравшийся парняга, успевший плеснуть пахучести нам в комнату: “Отец, – (это мне…), – закурить…” – покуда моя бдительная стражница – точь-в-точь баба с Механки! – локтем, коленом энергично выпихивала его в коридорную мглу, – даже он не ввергнул меня в смертное отчаяние, а лишь испортил настроение. Стена еще долго колебалась – опустошенные перестройкой казармы Варшавского договора были сшиты чуть ли не из картона, электропроводка лежала на потолочных скобах. Самой надежной здесь выглядела тюремная колючка, охватывавшая недавний советский стан. Кровати были привинчены к полу.
Индустриальный пар из наших чашек, легкий парок из наших губ, куртки внакидку… “Соня, а чего мы тут сидим?” – “Наконец-то вспомнил, как меня зовут. Ты же меня никак не называешь, боишься перепутать”. – “Нет, просто имена приходятся впору только чужим.
А ты – это ты”. – “Молодец. Умеешь с нашей сестрой”. Но в пресветлом трамвае у нее начала падать на грудь засыпающая головка: “Мне с тобой так спокойно, как будто я приехала к папе с мамой”. Не знаю, что было прекрасней – здания или их пустоты, заполненные золотом света или безопасным домашним мраком. Мы проникали в поперечные улочки, как в темные коридорчики, в которые когда-то в детстве осмеливались только заглянуть и отпрянуть, дрожа от восторженного ужаса. Словно дети, мы клевком поцеловались и заторопились вон из круглой кирпичной кадки – барбакана, соединяющего достоинства барбоса и бокастого барабана. У нас не было тел, покуда реальность снова не вставила мне паяльник. Я бросился на поиски – прожекторные откосы, стремительные туннели, дворцы, полицейские будки, отдающиеся штрафным ударом тока в нагрудном кармане с долларами (деньги носят только на себе – из рук могут вырвать), наконец-то кустики, уголок прозрачной снежной тьмы – еле успеваю залить уголек кипятком. Но одна крупинка игры – и в мире нет ни страшного, ни скверного: почему бы инфанту не сбегать под кустик в фамильном парке, втягивая шею, будто в прятках?
Погреться мы заглянули на сверкающую кухню, где старая добрая служанка, помнившая нас еще детьми, по старой памяти вынесла нам две вазочки желе со взбитыми сливками. Тепло, чистота, доброжелательность – какого еще рая искала моя священная дурь?
Чистые стены, чистые стекла, освещенные дворы с ликом Мадонны вместо “Алазанских долин”… Единственная рябь на зеркальной глади – искусственные цветы напоминали о кладбище.
Мы навалили на себя все наши шмотки, включая, кажется, и клопомор, – но солдатская кровать выдержит и не такое. Тем более
– верблюд, который и с тремя пудами на горбу ухитрялся снова и снова входить в игольное ушко: я балдел от ее детской спинки, уже почти серьезно опасаясь, что превратился в педофила.
Истерзанная зона Ершикова разбудила меня прежде писка будильника. В сортире пришлось-таки ухватиться за бурую переборку, когда расплавленный чугун хлынул в лоток. Зато она, наоборот, не могла ничего есть – бледненькая-бледненькая, глотала только теплый чай: разыгралась обещанная язва. Но мы все равно заскочили в знаменитые – оказалось, Лаз й нки, а не Л б зенки, – обошли Шопена, вдохновенно откинувшегося под завалившейся кроной бронзового модерна, прошлись среди вольных павлинов, скромно несущих параллельно снегу свои свернутые вееры, вздрогнули, когда мимо совершенно бесшумно прокатил белый автомобиль, – но от дворца я вынужден был, кусая губы, осторожно поторопиться к приземистому домику в отдаленном конце парка. Он был заперт, пришлось его обогнуть и с видом на Сейм, не то на президентский дворец… Это было переносимо только потому, что я утратил ненависть к себе.
Побродили по черно-снежным дворам Праги в поисках оптового
Анджея, выбрели на секс-шоп. Как всякий советский человек, то есть, в сущности, дитя… Она осталась поджидать со снисходительной, умудренной улыбкой. Вот где царила Простота: не притворяйтесь, вы же этого и хотели – все отборные, с кудрями, оптимистических расцветок, которыми так любят нас радовать бравые лакировщики в моргах и простодушные старички, хранящие вставные челюсти в стаканах с водой. Этак и живых потом не захочешь… Правда, продолжать осмотр, когда сразу два приказчика допытываются, цо пан воле… В следующем шопе я притворился глухонемым и до того вычурно жестикулировал, что продавец в конце концов развел руками – нет, мол, у нас таких размеров – и начал предлагать какие-то кандалы, шары на цепочках…
Время от времени которые-нибудь электронные часики в недрах нашей последней сумы принимались пищать, исполняя какой-то мышиный гимн. От сумы да от… Верно, еще не одна таможня впереди. Наконец и венец – Стадион: коренастый обжитой вулкан, по черной смазке слякоти выкатывающий медлительные потоки разноцветных курток, влекущих гроздья пузатых баулов.