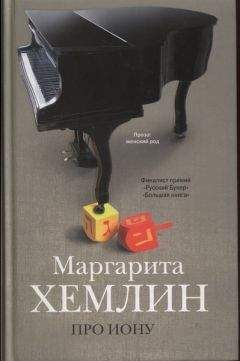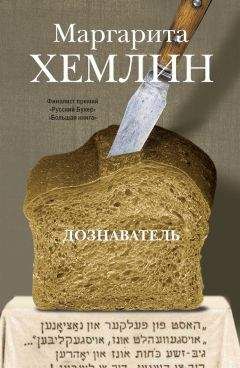Мама говорит: «Ты всем рассказывай, кто тебя обзывать будет».
Мама переживала, что у Миши еврейская внешность с годами становилась больше. Ну, я не стерпел такой темноты. Мама — простая женщина, неграмотная практически. В смысле сегодняшнего момента. К тому же лежачая. Когда лежишь и лежишь, всякое в голову идет. Говорю ей без Мишиного присутствия: «Мама, не забивайте голову мальчику. Сейчас Бога нет. И говорить не о чем».
А мама отвечает: «Ну теперь нет. Я наперед ему советую. Вдруг опять будет».
Умерла она хорошо, правда. Быстро. Можно сказать, с надеждой, что опять будет ходить. Незадолго до Гили. Я Мише написал потом. На «до востребования». Он как паспорт получил, мы с ним договорились, что я буду писать до востребования. А раньше он был против. Чтобы домой. Тебя расстраивать не хотел. Жалко, мама не летом умерла, а то бы при нем. Говорила перед смертью: «Михайлик у тебя ж в паспорте записанный? Записанный. Никуда от тебя не денется. Нэ журысь». Она и Мише повторяла: «Нэ журысь». Ему нравилось.
И к этой смерти хотели подключить моего сына. Да. Вокруг него больные и лежачие. Больные и лежачие. Прямо какое-то окружение.
Для Бога повод нашелся. А для родной мамы — нет. А мама всегда. Мама — хоть есть Бог, хоть нет.
Но дело не в этом.
Я спросила основное, что меня мучило:
— Миша знает, кто его отец? По твоим сведениям — или знает, или нет? Одним словом скажи.
— Ну какое тут одно слово! Он не дурак, Майечка. Он сразу раскусил. Фима его отец. Хоть и сумасшедший. Но родной отец. И он его как отца уважает и любит. Вот про Фиму мы говорили. Миша жалел, что Фима сумасшедший и много сказать не в состоянии. Но любовь, сама знаешь. Кровь говорит вместо ума.
— Это Миша так сказал?
— Миша. В последнюю нашу встречу. На вокзале сидели. Молчали. Он меня попросил помогать Фиме и Блюме. Ну, материально и так, словесно. Поддерживать. Я помогаю, ты не думай. Я вообще надеюсь, ты только не обижайся, может, Миша после армии в Киев переберется. Я его пропишу. У тебя же еще дочка. А я один. Как ты думаешь?
— Я ничего не думаю. А помнишь, как я хотела тебе девочку родить?
— Помню. Жалко, не родила. Но ты ж не специально не родила?
— Не специально. Теперь у меня и дочка есть. Эллочка. Хорошая девочка. Красивая. Умная. И рисует красками. Акварель. Очень талантливая.
Мирослав радостно закивал головой:
— У тебя ж другой и быть не могло. Я не сомневаюсь. Я в тебе вообще никогда не сомневался. Так жизнь повернулась. Один момент — и повернулась. Глупо. Мама жалела. А ты жалела?
Я ничего не ответила.
Попрощались тепло до следующей встречи. Мишу нам больше делить не надо. Из живых — он ни мой, ни его. Он, получается, Фимкин.
И опять столько переживаний. Зачем? Навести порядок внутри у Миши? Но какой там в настоящий момент порядок вещей, мне недоступно. А потому и какой надо устраивать — неизвестно.
И когда же мне жить? Вот вопрос и проблема номер один.
Но дело не в этом.
Весь обратный путь я спала. Спокойно до самой Москвы-сортировочной.
Растолкала меня проводница:
— Женщина, следите за вещами, воруют при высадке.
Да. Именно при высадке.
Дома с порога Марик устроил разбирательство, до каких пор у него не будет ключа от почтового ящика. Полный ящик газет, а взять нельзя. Я ему ключ отдала с улыбкой. Он удивился.
— Ладно. Я пошутил. Не надо.
— Надо-надо. Всем надо. И Эллочке надо сделать, чтобы у нее был ключ. Все-таки обязанность — забрать почту. Там же и ее касается: «Пионерская правда», «Костер».
Дальше я не говорила, а пошла спать. И спала до вечера. Пока не явилась с продленного дня Элла.
Как все иногда складывается. Очевидно и невероятно.
Вечером позвонил Бейнфест. Попросился в гости на завтра. Назавтра было воскресенье, и причин отказать не нашлось. Хоть видеть никого постороннего не хотелось. Тем не менее.
Натан Яковлевич пришел с запоздалым дополнительным подарком — шахматными часами. Марик схватился за них с радостью и вдохновением.
Поговорили о том о сем. Бейнфест среди прочего вежливо поинтересовался, понравилась ли мне мезуза[2], которую он преподнес на день рождения Марику.
Я удивилась. Я про мезузу вообще ничего не знаю. В суматохе не поинтересовалась у Марика про личный подарок Натана Яковлевича, потом поездка, а сам Марик не говорил.
Натан покачал головой:
— Очень прискорбно, что такие подарки остаются без места в жизни. Но я с таким расчетом и подарил, чтоб по преимуществу лежал. Понимаю, не то сейчас время, чтобы мезузы развешивать по косякам.
Но тем не менее попросил Марика принести и показать мне.
Марик покопался в своей комнате, минут через десять принес.
Бейнфест заметил:
— Что, далеко спрятал?
— Далеко, Натан Яковлевич. Такая вещь, что далеко.
Да. Мезуза оказалась знатная. Серебряный футляр, старой работы, сантиметров пятнадцать в длину и сантиметра три в ширину. Внутри свиточек пергаментный с рукописной молитвой на иврите.
Натан Яковлевич кратко объяснил суть.
Тут же вертелась и Элла. Смотрела-смотрела на мезузу. И говорит:
— Откуда у вас такая вещь, Натан Яковлевич? Где вы купили?
Натан откровенно сказал:
— Я не купил. Мне из Израиля товарищ привез. Полковник-летчик. Он еще в 1948 году там пребывал по заданию нашей Компартии и мне потом привез эту штуковину. Она у меня хранилась, и я подарил твоему папе и твоей маме и всей вашей большой и дружной семье. Это пускай для тебя будет наследственная вещь. Она особенная, так как ее, в свою очередь, преподнес моему другу сам товарищ Меир Вильнер. Главный коммунист Израиля! Он, конечно, коммунист, но для еврея такая вещь, как мезуза, не предрассудок и к партийности отношения не имеет. У нас пока не так, а в Израиле так.
Элла дальше:
— Ага. Я понимаю. Это для шпионских сведений. Внутрь шпионство засовывать и возить. Очень удобно. Военная тайна. Что же ваш товарищ какую-то тайну из Израиля привез вам на хранение, а вы теперь ее раскидываете? Вот к нам принесли. Спасибо вам большое. А я ее в милицию отнесу.
Натан Яковлевич засмеялся:
— Какая у вас дочка веселая и находчивая! Эллочка! Мой товарищ был выдающийся коммунист, его партия лично посылала. Если хочешь знать, я туда тоже собирался. Как коммунист и фронтовик. Только потом во мне надобность отпала, а товарища послали. Ты умная девочка, должна понять.
— Ага. Понимаю.
Развернулась и пошла к себе в комнату. А на ходу обернулась и спросила:
— Натан — это по-переделанному будет как? По-русски?
Бейнфест не понял.
Зато я сразу поняла:
— Натан — это, чтобы ты знала, Анатолий. Иди-иди. Записывай.
Бейнфест в растерянности развел руками:
— Сколько лет вашей девочке?
— Почти десять. Не удивляйтесь. Она очень развитая.
Бейнфест сказал, когда подумал:
— Знаете что, я старый дурак. При ребенке мезузу разобрал. А для ребенка это удар. Все перекрутила, перекрутила. Простите меня. Вам теперь объясняй ей, ставь с головы на ноги.
Марик отмахнулся:
— Не волнуйтесь. У нашей Эллочки своя особая голова на плечах, и там такой порядочек установлен, что только держись. Она вашу мезузу вставит в свое место. И учтет. Мы привыкли. Вы только при ней про евреев не упоминайте. Просто так. Для нашего общего покоя.
Бейнфест перевел разговор на другое.
Говорит:
— Вы мне родные, и потому между нами должны быть особые доверительные отношения. Как между клиентом и адвокатом. Шучу. Но в каждой шутке есть великая правда. Вы знаете. Так вот, Майечка. Я хочу тебе предложить, потому что ты в этой истории будешь самое главное звено. У меня очень хорошая квартира. Неподалеку от вашей — в Старомонетном. Двухкомнатная с огромной кухней. Тебе, Майечка, это особенно важно знать как хозяйке.
Я скоро умру. Это дело решенное. У меня сильная болезнь плюс возраст. Я консультировался со знакомым академиком — шансов нет. Умру я — и квартира достанется государству, от которого я, конечно, видел много хорошего, но все-таки не до такой степени, чтобы посмертно делать шикарные подарки.
План такой. Самый шпионский. Хе-хе. Конечно, фикция всем понятная. Но никто не подкопается. Вы с Мариком разводитесь. Ты, Майя, расписываешься со мной. Я тебя как жену прописываю. И квартира ваша. Я сколько живу, столько живу, и умираю с легким сердцем, что обеспечил близких мне самым дорогим и важным — лишней крышей над головой. Я долго думал — и, кроме вас, мне такой подарок, чтоб от чистого сердца без задней мысли, сделать некому. А вам — пожалуйста.
Марик растерялся. Попросил время подумать. Я к нему присоединилась. Не в каждой жизни происходят такие подарки.
Бейнфест на прощание попросил с ответом не тянуть, так как время его поджимало и каждую минуту он мог уйти навсегда. Как он выразился: