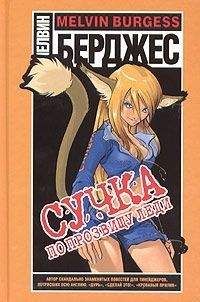Он ушел перед утром, ослабевший, старенький, а когда закрылась за ним дверь и совсем уже бесцельная тишина затопила мастерскую, где везде еще было присутствие Демидова и где его уже не было, Андрей почувствовал вдруг такое впившееся в грудь одиночество, что со стиснутыми зубами стал быстро ходить по мастерской, будто это могло принести облегчение.
Вся мастерская из конца в конец была освещена, но воздух в ней потускнел, посерели цвета, солнечный свет, блики на воде, синева и голубизна неба, сочная зелень травы, слепящая искристость снегов, изменились лица на портретах и какой-то темный налет окутал скульптурные портреты, а в их мраморе еще недавно, мнилось, пульсировала кровь.
И Андрей, оглядываясь на оледенелые краски в мастерской, понял: здесь, в лаборатории колдовства, не было живого дыхания деда, его большой, сутуловатой фигуры, его весело-грозных глаз, громыхающего хохота, его такой знакомой патриархальной бороды — и вместе с ним ушло теплое присутствие жизни в доме, хотя все внешне оставалось по-прежнему. Неизмеримая зимняя стылость омертвила все. Потом, разбирая в комнате деда ящики письменного стола, перекладывая папки и альбомы, рассматривая лауреатские грамоты, удостоверения, орденские книжки, телеграммы и письма, Андрей то и дело осязал чей-то взгляд из холода пустоты: кто-то смотрел ему в спину, стоя сзади, готовый подойти, коснуться рукой его плеча — и стягивающий кожу озноб пробегал по затылку.
В нижнем ящике стола под листами с рисунками Демидов прятал в коробке из-под монпансье завернутый в тряпку старый «вальтер», немецкий пистолет, подаренный в годы войны (о чем знал Андрей) поклонником живописи капитаном артиллерии, лечившимся в московском госпитале. Коробка с пистолетом была на месте.
На двух сберегательных книжках лежали остатки некогда крупных сумм — и по датам видно было: ежемесячно дед снимал деньги и посылал в Читу, живущей там сестре. В письмах она благодарила его, родного брата, почему-то подобострастно объясняла, что четверо внуков на руках у нее без родного отца, которого на лосиной охоте случайно дружки по пьянке убили, а мать ребятенков пластом лежит, параличом разбитая, и ухаживать за ней, как за дитем, надо.
Демидов иногда говорил, что у него есть сестра в Сибири, не рассказывая подробности ее жизни, но по сберегательным книжкам и по ее письмам из Читы отчетливо проступало его отношение к неблагополучной сестре. На обеих книжках стоял штамп «вклад завещан», и в какой-то момент, когда он увидел его и подумал о своем безденежье, Андрей испытал толчок обиды, но вспомнил первую строку из предсмертной записки-завещания деда:
«Душеприказчиком всего сделанного мною остается»… — и поразился тому, что осознал внезапно: «Да ведь он оставил мне несметное богатство! Несметное!» И недобро определяя, кто же он, внук Демидова, обделенный деньгами корыстолюбец, прожженная сволочь или просто дрянной журналист с ничтожными человеческими слабостями, он часами просиживал в комнате деда, где из открытых ящиков письменного стола пахло старым картоном, сухой пряной пылью, и ощущение самоказни не проходило.
Продолжительные звонки в дверь были так назойливы и упорны, что их дребезг в тишине квартиры звучал сигналом бедствия. После многочисленных выражений соболезнования решив на время ни с кем не встречаться, Андрей открыл дверь — и сразу почувствовал боль в висках при виде мясистого, с багровыми пятнами лица, изображавшего подобающее моменту скорбное сочувствие. Это был Песков. Со шляпой в руке, наклоняя обширную лысину, он проговорил сердечным голосом:
— Разрешите к вам на несколько секунд, чтобы выразить глубокое соболезнование, Андрей Сергеевич.
— Благодарю. Вы уже сделали это в крематории, — ответил Андрей, не понимая причину этого раннего прихода. — Плащ и шляпу можете оставить на вешалке. У меня не прибрана постель, поэтому пройдите в комнату Егора Александровича. Я сейчас оденусь, — сказал он, не принуждая себя к внешнему гостеприимству.
Когда причесанный, в застегнутой рубашке Андрей вошел в комнату деда, Песков, надев очки, клоня голову то влево, то вправо над письменным столом, с острейшим любопытством смотрел на кучи телеграмм с соболезнованием, на кипы папок, альбомов и бумаг, раздвигая какие-то листки пальцем, и, застигнутый врасплох, поежился круглой спиной, повертываясь на каблуках к Андрею с извиняющейся гримасой.
— Что вас там заинтересовало? — спросил Андрей. — Вы очень любознательны, Исидор Львович, как мне показалось.
— Ах, горе, горе, — заговорил Песков тонким голосом, не соответствующим его бычьей шее, плотно вросшей в плечи, его внушительной голове, всей его полнокровной комплекции низкорослого тяжеловеса. — Как не быть любознательным, когда ушел из жизни такой художник, такой матерый человечище…
— Насколько я помню, это слова Ленина о Льве Толстом, — сказал Андрей и взял сигареты со стола, сел в кресло. — Не надо стоять. Садитесь. Вы пришли мне что-то сказать?
— Разумеется, разумеется, я должен вам сказать, Андрей Сергеевич, — заговорил Песков, отваливаясь на диване и глядя в потолок тоскующими вишневыми глазами. — Да, смерть лишь мгновение в бесконечном движении. Вот нет Егора Александровича, а я никак согласиться не могу. Не могу, понимаете ли, хотя знаю, что всех нас уведут в никуда вестники смерти — судьба и срок. У меня как художника и искусствоведа подчас была иная точка зрения на живопись, мы подчас спорили, но между тем я поминутно ощущал присутствие… большого таланта. Меня даже страшило его величие. Какой талант, какой талант! Какое огромное наследство он оставил! Какой титанический труд! Но что делать? Что делать?
— В каком смысле «что делать?»
Андрей поставил пепельницу на подлокотник кресла, стряхнул пепел с сигареты, без особого расположения воспринимая речь Пескова. Тот нервозно подкинул на диване короткое тело тяжеловеса, вздернул короткие руки, точно стремясь поддержать падающий потолок, вскричал трагическим тенором:
— Что делать? Как сохранить оставленное богатство? Наши музеи, понимаете ли, и галереи не покупают хороших картин! У них нет ни деревянного рубля, ни бумажного доллара — нет в кассе ни копейки! Государство держит уважаемые заведения на нищенском пайке. Бедны, как церковные мыши! Что делать, Андрей Сергеевич? Не будут же веки вечные творения Демидова пылиться в его мастерской! Скажите, он, надо думать, оставил завещание?
— Да.
— На ваше имя, разумеется?
— Да.
— Не подумайте лишнего, но можно ли мне, человеку более опытному, чем вы, взглянуть на документ хоть одним глазом?
— Зачем? — Андрей пожал плечами. — В этом нет надобности.
Песков натужно заворочал вросшей в плечи шеей, затем с небрежностью подтянул на слоновьих коленях брюки, выказывая на щиколотках бледно-сиреневые носки; его ртутной подвижности глаза утратили тоскующее выражение, пытливо обегали Андрея.
— Как думается, Андрей Сергеевич, наши споры с вашим дедом вы считали за вражду? Заблуждение, обидное для меня недоразумение! Разумеется, в наших спорах не хватало лжи и лицемерия, вот что! Мы были честны, наши взгляды расходились, мы были не сдержаны, возможно, грубы, но отнюдь не врагами! Так что умоляю не считать меня за того, кем я не являюсь! Как почитатель таланта Егора Александровича я хочу помочь вам. Я знаю работы вашего деда тридцать лет, и мне небезразлична их судьба! Поверьте, я заинтересован от чистого сердца, мы не были друзьями, но мы были хорошими знакомыми, а в ваших глазах я вижу полное недоверие ко мне! Но Бог с вами. Без вины виноват! Взглянув на завещание, я как более сведущий, чем вы, мог бы дать совет…
— Говорите: полное недоверие? — повторил Андрей и с силой задавил сигарету в пепельнице. — Не знаю, полное ли. Но завещание вам видеть совершенно не нужно. Зачем это вам?
Песков не рассмеялся, а странно оттопырил нижнюю губу, по-видимому, этим обозначая анекдотичность положения вопреки сути здравого смысла.
— Как жаль, как жаль! Недоверие, недоверие — как это всех разъединяет! Мой интерес к завещанию… вас ни к чему не обязывает. Вы теперь полновластный хозяин всего, что оставил Егор Александрович. Я из уважения к покойному мог бы дать вам несколько советов, если на то была бы ваша воля и потребовалась необходимость помощи человека, кое-что понимающего в живописи. Разумеется, я не ожидаю… — И Песков, выделяя комичность того, что скажет дальше, смешком заколыхал живот, — не ожидаю корыстно увидеть в завещании строчку, что мне подарен какой-нибудь чудесный пейзажик, а вы скрываете это. Шучу-шучу, не обижайтесь и не хмурьтесь на меня, Андрей Сергеевич.
— Пожалуй, да, — сказал Андрей, с непроходившей болью в виске соображая, как без грубости (к которой был готов) выпроводить не нужного сейчас Пескова, устроившегося на диване для обстоятельного разговора.