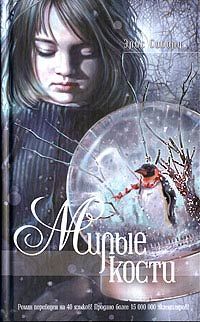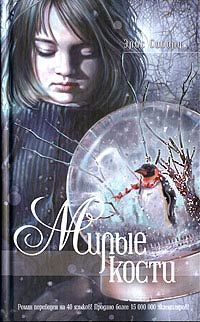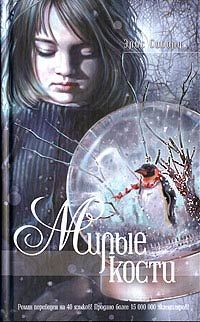Впереди росло старое раскидистое оливковое дерево.
Солнце стояло в зените; перед оливой зиял просвет. В следующую секунду я увидела, что пшеница сбоку от него идет волнами, будто сквозь нее пробирается крошечное создание, не достающее до колосьев.
Она была маленькой для своего возраста — точь-в-точь как на Земле. В ситцевом платьишке, обтрепанном на подоле и манжетах.
Мы столкнулись лицом к лицу.
— Я сюда прихожу почти каждый день, — сказала девочка. — Люблю слушать шорохи.
И точно: кругом» сопротивляясь ветру, шуршала пшеница.
— Ты знакома с Фрэнни? — спросила я.
Малышка серьезно кивнула.
— Она дала мне план этой местности.
— Значит, ты готова, — заключила она и, находясь в собственной небесной сфере, стала кружиться, да так, что юбочка раздувалась колоколом. А я присела под деревом и смотрела. Когда ей наскучило кружиться, она подошла ко мне и, отдуваясь, устроилась рядышком.
— Меня звали Флора Эрнандес, — сказала она. — А тебя как звали?
Я назвала свое имя, а потом расплакалась от настоящей общей беды — это оказалась еще одна девочка, которую он убил.
— Скоро и остальные подтянутся, — сказала она. Флора опять закружилась, а на поле появились другие девочки и женщины, которые разбрелись в разные стороны. Наша душевная боль переливалась от одной к другой, как вода из стакана в стакан. рассказывая свою историю, я всякий раз избавлялась от малой частицы, от крошечной капельки собственных мучений. В тот самый день у меня созрело решение поведать о нашей семье. Потому что для тех, кто остался на Земле, ужас — это бытие и повседневность. Как растение, как солнце: его не втиснуть ни в какие рамки.
Сначала им все сходило с рук, и мать была на седьмом небе от счастья. Когда они сворачивали за угол от очередного магазина, она так заливисто смеялась, вытаскивая на свет краденое и похваляясь перед сыном, что Джордж Гарви тоже начинал хохотать и робко ластился к матери, поглощенной новой добычей.
Оба с радостью использовали любую возможность укатить на несколько часов от отца в ближайший городок, чтобы разжиться съестными и хозяйственными припасами. Самым пристойным промыслом был у них сбор металлолома и пустых бутылок: этот мусор они грузили в дребезжащий отцовский фургон, везли в город и сдавали в утиль.
Когда их с матерью впервые поймали с поличным, кассирша проявила снисхождение.
— Если можете заплатить — платите. Не можете — оставьте на прилавке, — беззлобно сказала она и подмигнула восьмилетнему Джорджу Гарви.
Мать вытащила из кармана маленькую стеклянную бутылочку аспирина и робко опустила ее на прилавок. Она чуть не плакала. «Что старая, что малый», — частенько выговаривал отец.
Страх быть пойманным на месте преступления, как и тот, другой страх, следовал за ним по пятам, крутился в животе, как яйцо под сбивалкой; по каменному лицу и колючему взгляду человека, идущего к ним по проходу, он научился распознавать продавца или охранника, который заметил воровку.
Впоследствии она стала совать краденое сыну, чтобы тот спрятал добро под одеждой, и он не мог отказаться. Если им удавалось выскользнуть и смыться на своем фургоне, она веселилась, хлопала ладонью по баранке и называла маленького Джорджа Гарви своим подельником. Кабина переполнялась ее буйной, непредсказуемой любовью, и на какое-то время — пока не иссякал этот всплеск, а на обочине не обнаруживалась какая-нибудь блескучая ерунда, которую нужно было, как выражалась мать, «проверить на годность», — он становился по-настоящему свободным. Свободным и обласканным.
Он запомнил совет, полученный от нее во время самой первой поездки по Техасу, когда они увидели на обочине белый деревянный крест. У основания лежали цветы — свежие вперемежку с увядшими. Их пестрота сразу привлекла наметанный глаз мусорщика. — Жмуриков-то особо не разглядывай, — сказала мать — Но и своего не упускай: иногда с них можно снять приличные цацки.
Уже в ту пору он подозревал, что в их действиях есть что-то запретное. Вместе выбравшись из кабины, Они подошли к кресту, и тогда глаза матери превратились в две черные точки — так бывало всякий раз, когда впереди маячила удача. Вот и сейчас, откопав талисман в форме глаза, а потом еще один — в форме сердечка, она протянула их Джорджу:
— Не знаю, что скажет отец; давай-ка мы с тобой это прикарманим.
У нее в тайнике хранилось немало таких вещиц, о которых отец даже не догадывался.
— Выбирай: глаз или сердечко?
— Глаз, — сказал он.
— И розочки прихвати, какие посвежее. В кабине красиво будет.
Они заночевали в фургоне, не в силах ехать обратно, туда, где отец нашел поденную работу: вручную пилил тес и колол его на щепу.
Спали они, по обыкновению, в кабине, свернувшись калачиком и прижавшись друг к другу, как в тесном гнезде. Мать ерзала и крутилась волчком, сгребая под себя одеяло. После долгих мучений Джордж Гарви усвоил, что бороться с этим бесполезно, лучше дать ей вволю поворочаться. Пока мать не находила удобного положения, заснуть не удавалось.
Посреди ночи, когда ему снились королевские опочивальни, виденные в библиотечных книжках с катинками, кто-то постучал по крыше, и Джордж Гарви с матерью подскочили как ужаленные. Трое прохожих заглядывали в окно знакомым Джорджу взглядом. Точно так же смотрел иногда по пьянке его отец. Этот взгляд был избирательным: он выхватывал мать и в то же время полностью исключал сына.
Он знал, что кричать нельзя.
— Молчи. Тебя не тронут, — шепнула мать.
Его затрясло под ветхими армейскими одеялами.
Один из троих незнакомцев стоял перед лобовым стеклом. Двое других с обеих сторон колотили по крыше, хохоча и причмокивая.
Мать неистово мотнула головой, но это их только раззадорило. Тот, что преграждал им путь, начал бить ногой по бамперу, чем еще пуще развеселил своих дружков.
— Не дергайся, — тихо сказала мать. — Я притворюсь, что выхожу. Ползи сюда. Когда скажу, включишь зажигание.
Он знал, что ему говорят нечто очень важное. Что на него рассчитывают. Вместо привычного хладнокровия в ее голосе зазвучал металл, пробивающий броню страха.
Она изобразила улыбку и, когда мужики, утратив бдительность, заулюлюкали, локтем переключила передачу. «Давай!» — бросила она без видимого выражения, и Джордж Гарви подался вперед, чтобы повернуть ключ зажигания. Грузовик ожил и затарахтел.
Злоумышленников перекосило; от похотливых усмешек не осталось и следа, а когда фургон резко дернулся назад, они просто-напросто растерялись. Еще раз переключив передачу, мать крикнула Джорджу Гарви: «Ложись!» Скорчившись на полу, он почувствовал, как в паре футов у него над головой о капот ударилось чье-то тело. Потом тело рывком бросило на крышу. Оно задержалось там не более секунды, пока мать еще раз не дала задний ход. В этот миг к Джорджу Гарви впервые пришло четкое осознание: плохо быть ребенком, плохо быть женщиной. Хуже некуда.
Как у него захолонуло сердце, когда Линдси бежала к зарослям бузины. Впрочем, он тут же успокоился. Этому его научила мать, а не отец: сначала прикинь, чем рискуешь, а потом действуй. Он успел заметить, что блокнот лежит не на месте, а из альбома вырвана страница. Проверил спрятанный в сумке нож, спустился с ним в подвал и выбросил в квадратную дыру, пробитую в фундаменте. Сгреб с металлического стеллажа памятные вещи, которые остались от убитых. Зажал в кулаке снятый с моей цепочки брелок — замковый камень, эмблему Пенсильвании. На счастье. Остальные мелочи разложил на белом носовом платке, взялся за уголки и связал узел, с какими ходят бродяги. Засунув руку в дыру под фундаментом, он даже лег на живот, чтобы найти место поглубже. Три пальца ощупывали стенки, а два других сжимали скромный узелок. Нащупав ржавый выступ металлической балки, который строители забрызгали цементом, он повесил туда свои сокровища, вытащил руку и поднялся с пола. Книжонку с сонетами он с наступлением тепла закопал под деревьями в парке Вэлли-Фордж, без лишней суеты избавляясь от улик; теперь оставалось только надеяться, что все было сделано по уму.
Прошло от силы пять минут. Его подхлестывали досада и злость. Он успел проверить то, что другие назвали бы ценностями: запонки, наличность, инструменты. Но время поджимало. Нужно было звонить в полицию.
Сперва он как следует подготовился. Немного походил, сделал быстрый вдох-выдох, а потом, услышав голос дежурного офицера, изобразил крайнюю степень раздражения.
— Примите вызов. Кто-то вломился ко мне в дом, — заговорил он, прокручивая в уме начало своей версии, но уже прикидывал, как побыстрее смотать удочки и что взять с собой.
— Набирая номер полицейского участка, отец рассчитывал поговорить с Леном Фэнерменом, но того не было на месте. Отцу сказали, что двое офицеров уже «выехали в адрес». Хотя мистер Гарви предстал перед ними в расстроенных чувствах, он вел себя вполне разумно. Правда, его вид вызывал какую-то брезгливость, но полицейские решили, что причиной тому — слезы и сопли, непозволительные, с их точки зрения, для мужчины.