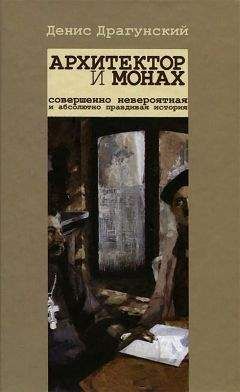— Неважно, — сказал я. — Хотя конечно. Это был повод, все так считали. Раньше никто не слышал про таких «волков». Их застрелили при задержании. Какие-то никому не известные Рем и Штрассер. Ну да, ну разумеется, они пытались отстреливаться, ранили трех полицейских, в результате Рем получил пулю в шею, а Штрассер выпал из окна, пытаясь скрыться. Все газеты долбили: «Рем и Штрассер, Рем и Штрасер», и по радио «ремиштрассер, рмштрсср»… Как Пат и Паташон! Ужас. Повод, чтобы сразу резко закрутить гайки. Но я не о том, Джузеппе. Я о том, что вся эта жутко высокая политика отозвалась на жизни простых немецких бонвиванов. На любителях небольших дневных приключений: отпроситься на пару часов со службы и убежать в дешевую гостиницу. Вдруг все изменилось.
Теперь в гостинице надо было регистрироваться. Почему? «Безопасность!» Какое внушительное слово! Особенно если его произносит портье, строго вращая глазами. О, с каким удовольствием портье смотрит на твое удостоверение. С каким наслаждением вписывает твое имя и номер удостоверения в журнал.
Фото! С каким упоением он сличал твое лицо с фотографией, а иногда вежливо просил снять шляпу или откинуть волосы со лба…
Гениальность Тельмана в том и состояла. Он дал власть всякой швали. И вся эта шваль его поддержала и поддерживает.
Да. При кайзере никто не смел проверять документы у офицера или вообще у прилично одетого господина. Прилично одетый господин всюду проходил без спросу. При Гинденбурге проверить документы мог военный патруль или полиция. А при Тельмане любой гостиничный швейцар, любой дворник, любой привратник любой конторы — в Германии сразу расплодились привратники! Миллион привратников! — любой привратник мог спросить удостоверение личности у кого угодно. Законы о безопасности! А приличный господин, который раньше чувствовал себя хозяином — потому что у него был хороший костюм, дорогая сигара, деньги в бумажнике — он сам по себе стал подозрителен в государстве рабочего класса. Даже слова «приличный господин» стали насмешкой, ругательством. «Ишь ты, какой приличный господин!» Приличный господин стал заискивать перед швейцаром и метрдотелем. Джузеппе, я демократ и социалист. Я сочувствую бедным. Я сам из бедных. Но я ненавижу, когда шваль за мной следит и шваль мною командует.
Так вот, гостиница. Раньше я нанимал номер, говоря свою фамилию и платя за день вперед. Раньше я водил к себе в номер женщину, просто взяв ее под руку — вел мимо портье, и ни одна шваль не смела задать мне вопрос.
Но это раньше так было. А вот теперь будьте любезны, зарегистрируйтесь. А если к вам приходит гость, мужчина или женщина — пусть получит у портье гостевую карточку. Заполнит маленькую анкету. Имя-фамилия, дата и место рождения, номер удостоверения. Слава богу, у нас в Австрии этого нет. Это только в Германии. Но я до тридцать восьмого прожил в Мюнхене и нахлебался.
Но не в этом дело, дорогой мой Джузеппе. Не в том дело, что бедняжке Еве пришлось бы заполнять анкету под мерзопакостным взглядом портье. Мне просто не хотелось вести ее к себе. Я никогда не мог пойти с женщиной, если я прежде не фантазировал о ней. Как это по-вашему? Если сначала не прелюбодействовал с ней в сердце своем. В моих мечтах не было места для Евы, и даже нарочно, даже холодным рассудком, рассудочным, так сказать, воображением — я не мог представить себе, что я ее обнимаю-целую-раздеваю и все прочее. Хотя разве можно такое представлять себе нарочно, холодным рассудком? То-то и оно.
Поэтому я успокаивался дня на два-три. Потом снова начинал о ней думать, и снова приходил на почтамт. Наконец я понял, что все, ждать смысла нет, и выбросить из головы тоже невозможно. Я решил ехать к ней. Ну, скажем так — решил поехать узнать, как она там. Я совершенно серьезно собрал маленький чемодан. Однако по дороге все-таки зашел на почтамт. Письмо ждало меня. Уже второй день, судя по штемпелю.
Я поставил чемодан около стола, сел на скамейку, вскрыл конверт и начал читать.
«Я не хотела вам больше писать, мой дорогой далекий теперь уже бывший друг, потому что вы правы, конечно — не надо шалить чувствами, тем более что у нас такая большая разница в возрасте, в образовании и общественном положении. Я готова принять наше расставание без лишних слов.
Но вчера мне приснился сон про нас с вами.
Мне приснилась война. Я не помню ту войну, только по рассказам мамы и папы. Хотя могла бы запомнить хоть что-то, мне уже шесть лет было, когда война закончилась. Но вот не помню, а выдумывать не буду. А вчера мне приснилось, как будто идет ужасная война. Я в грязном обгоревшем доме, стою около окна, смотрю на улицу. Из этого окна я когда-то читала стихи прохожим — помните, я вам писала про это? Но это мне не снилось, это я вам просто объясняю, что это за окно. Окно нашей гостиной. А сейчас — то есть во сне — все ужасно. Я смотрю из окна. Мостовая разбита, дома на другой стороне разрушены, из выбитых окон идет дым, кругом мусор. Мне хочется плакать, потому что я совсем одна, я не знаю, где мама и папа, где сестра Эльза. Вдруг вижу: по улице бегут какие-то люди в военной форме, они подбегают к окну, протягивают руки и прямо из окна вытаскивают меня наружу. У меня нет сил сопротивляться, закричать, даже спросить, куда они меня тащат. Они сажают меня в большой автомобиль. Слышу, как они переговариваются. Они говорят про меня «она — его любовница». И я сразу понимаю, о чем идет речь. Я — ваша любовница. Уже давно. И вот сейчас мы едем к вам. В какую-то крепость. А вы — фельдмаршал, даже еще выше — вы главнокомандующий. Идет ужасная война, враги наступают. Мы едем, а на улицах стреляют, бегут солдаты, рвутся бомбы. Вот меня вытаскивают из машины, ведут по подземным ходам этой крепости. И вот я вижу вас. Вы весь изможденный, бледный, одеты в фельдмаршальский мундир с крестами и звездами. Мундир помят, весь в кирпичной пыли, как в крови. Просто больно смотреть! Но я очень рада, что вижу вас. Мы обнимаемся и целуемся. И тут в комнату вбегают вражеские солдаты. Они стреляют, я пытаюсь закрыть вас своим телом, и мы оба падаем мертвые.
И какой-то голос громко шепчет мне прямо в ухо: «Он вмешался, он вмешался, и поэтому погиб. И ты с ним погибла, потому что он вмешался».
Я проснулась, было уже почти утро, я лежала и думала, что это значит. Из-за этого сна я все-таки решила написать вам письмо. И сказать: не вмешивайтесь, мой далекий друг. Не надо вмешиваться. Вы понимаете, о чем я. И не пишите мне больше, никогда, никогда! Иначе несчастье свалится на вас. Я так боюсь принести вам несчастье.
Прощайте, ваша Е. Б.»
Собственно, я уже давно не вмешивался.
— Джузеппе, — вдруг сказал он. — Джузеппе, ты чувствуешь настоящее?
Я не понял его и переспросил:
— Настоящее — что?
— Настоящее время, — сказал он. — Вот сейчас что-то происходит. Неважно что. Что угодно, ерунда какая-нибудь. Чашка кофе стоит на столе. Вот она, сейчас, в эту секунду, и ты на нее смотришь и чувствуешь: «В эту секунду чашка кофе стоит на столе, и я ее вижу». Ты умеешь так?
— Как — так? — я никак не мог сообразить, о чем он говорит.
— Да очень просто! — он начал злиться. — Вот просто: ну, бог с ней, с чашкой. Вот ты на меня смотришь, и меня видишь, и чувствуешь это. Да?
— Да, конечно, — сказал я. — Я на тебя смотрю и тебя вижу.
— Это-то понятно, — сказал он. — Но ты это чувствуешь? Ощущаешь? Переживаешь?
— Разумеется, да. А как же? Конечно, — сказал я.
— Точно? — спросил он. — Ты в этом абсолютно уверен?
Я вгляделся в него.
Да, да, конечно, передо мной сидел он, он, который… он, из-за которого… и я чувствовал это так сильно, как я вообще, наверное, никогда и ничего на свете не чувствовал.
— Да, — сказал я. — Уверен абсолютно.
— Хорошо тебе, — сказал Дофин. — А у меня не получается. Я умею только вспоминать. Вот через какое-то время — лучше через год, но можно и сегодня вечером — я вспомню все в малейших подробностях, да не в подробностях дело, я вспомню все и почувствую все. И тебя, и чашку кофе. Именно почувствую, переживу. Но только в прошлом, понимаешь? Я могу сильно чувствовать только прошлое. А то, что сейчас — как-то быстро мелькает и убегает в память. Чтобы потом ожить. А чтобы сейчас, вот сейчас — нет, не получается. Джузеппе, у меня было много приятных моментов в жизни. Самых разных. Я получал Национальную премию из рук президента Австрии. Я обедал с членами английского королевского дома. Я спал с красивыми женщинами, которых я очень хотел и долго добивался. И я щипал себя за руку, я кусал себе губы и говорил себе, едва ли не вслух шептал: «Не смотри в одну точку! Не отводи глаза! Не думай о всякой ерунде! Сосредоточься и чувствуй, вот оно, вот сейчас происходит! Вот сейчас тебе вручают медаль, и весь зал, полный красиво одетых дам и господ, аплодирует тебе, как чудесно! Вот сейчас ты сидишь напротив принца Уэльского, вы пьете белое вино, ты его спрашиваешь про политику Британии на континенте, он что-то отвечает с типичным английским юмором, как занятно! — Дофин перевел дыхание. — Вот, наконец: ты обладаешь женщиной, которую ты добивался полгода, и вот она твоя. Вот ты с ней в постели! И я просто кричу себе в уме: ощущай, ощущай, вот она голая с тобой, под тобой, вот ее руки, груди, губы, бедра и все вообще, ты в ней, так почувствуй же это всеми дольками своей души!» Но нет. В голову и в душу лезут какие-то обрывки про другое. Про тот же обед с принцем Уэльским. Причем так ярко лезут эти обрывки, что реальная женщина, такая великолепная и такая желанная, как-то убегает в тень…