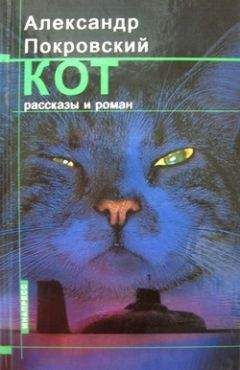Которую уложил очень точно – стрела в стрелу – поскольку наиболее важным в этом непростом деле мне представляется не столько объем и скорость послания, сколько кучность, своевременность и лаконичность.
Для чего пришлось выбрать вертикальную стойку, так как на горизонтальной поверхности метка держится недостаточно долго, и, кстати говоря, на плоскости гражданская позиция, растекаясь, со временем претерпевает изменения, а на всем вертикальном – нет, поскольку изначальные потоки… эти…
А так хочется быть правильно понятым.
Так хочется неискаженным дойти до сознания всякого и передать ему свое отношение к таким, например, понятиям, как целостность и целокупность.
А я о них много размышлял и пришел к выводу, что целостность – это не совсем целокупность, поскольку она всего лишь насильственное, механическое соединение расползающихся частей, в то время как целокупность предполагает самодостаточность каждой части при гармоничном сочленении их в единое целое.
Хочется все это не растерять.
Хочется отразить.
Выразить.
Запечатлеть.
Обвеховать.
Для чего и приходится метить.
И в этом нам поможет вертикаль, упрочнение которой не оставляет нас равнодушными, потому что вертикаль – есть в ней что-то особенно притягивающее, завораживающее, как взгляд восставшей кобры.
С этим словом связываются надежды, и не на пустом месте возникает желание доверить ей что-либо особенно ценное.
Я бы во всем этом увидел фаллический символ и, в частности, его торжество, если бы слыл за почитателя оного.
Но нет! Отнюдь!
Мне кажется, использовать фаллос как категорию, как объединяющую идею нельзя – слишком велико давление повседневности, если не сказать обыденности.
Для объединяющей идеи хорошо бы использовать что-нибудь не совсем привычное, лучше фантастичное, не всегда досягаемое, но жутко, жутко привлекательное.
Условно говоря, не мед, но только предполагаемый вкус его.
А может быть, даже больше – воззрения относительно предполагаемого вкуса, помыслы в отношении его формирования или же только надежды на подобные помыслы.
– Здесь где-то должен быть кот! – услышал я за своей спиной голос вахтенного, который вернул меня в мир. – Старпом дал задание поймать для него кота, чтоб он сторожил у него крыс. Сейчас посмотрю.
Мама моя, я немедленно прекратил свои размышления и слился с окружающей средой.
А вы знаете, как кот сливается с окружающей средой: он сгибается, распластывается и сверлит своим взглядом преследователя.
И тот зрит только то, на что его подвигает примитивное сознание.
– Нет никого!
Ну вот видите! Смотрел на меня в упор и ничего не заметил.
А все потому, что мы, коты, умеем смещать взор незатейливого наблюдателя в сторону от себя.
И он, этот взор, видит всякий вздор.
Люди этой способности лишены. Они много чего лишены – логики, например, – но и этого тоже.
Что и правильно.
Будь я правителем, я бы в первую очередь запретил логику, если б она у них была, а потом – ум.
Я издал бы указ: «О запрете ума, виновного…»
Но при этом я оставил бы им свободу слова – и люди превратились бы в попугаев.
Мне достаточно было бы сказать одно только слово – к примеру, «законность» – и они перепевали бы его на все лады.
После чего я разрешил бы им вешать на стенах свой портрет, который был бы воспроизведен таким образом, что с какой точки на него ни посмотри, все кажется, что он смотрит тебе прямо в глаза.
Это способствовало бы пищеварению.
Они б у меня гвозди переваривали!
Они б у меня…
– Вот он!
– Кто?
– Да кот же!
Ай, как нехорошо! Я совершенно расслабился, забылся, и вместе со мной ослабла моя маскировка. Сейчас мы ее восстановим.
– Где ты видишь кота?
– А ты не видишь?
– Нет.
– Только что здесь был.
Был-был. Кто же спорит. «Ах! – говорила одна моя знакомая. – Бытность – она ведь не данность!»
И я с ней соглашался.
С ней невозможно было не согласиться в осязаемой близи.
Она находилась рядом в пору моей бурной юности.
Чудное лицо, волосы мягкие, нежные руки и ноги, к которым не возбранялось с восторгом лечь.
А стан?
Ох, что это был за стан, о-о-ох!..
Чёрт побери! Что это был за стан!
Чёрт побери!
Мы любили ходить среди могил. Она держала меня на руках.
Она ласкала мне шею.
В основном шею.
Она меня почесывала.
Она скреблась ноготками.
У нее были замечательные ноготки на руках и восхитительные ноготки на ногах.
Прелестные были ноготки, прелестные!
Это она приучила меня к эпитафиям.
«Смотри, котик, что здесь написано, – говорила она, поднося меня к очередному надгробию: – „Когда бы не рези, единственным его испытанием была бы совесть!“ А вот еще: „Он предпочитал чтение, бедняга. И читал он всякую чушь“».
О, как мне нравились эти мгновения.
И как я хотел бы, чтоб они длились вечность.
В эти минуты я наполнялся величием. В глазах моих ютилась нега, в членах – томность.
И я любил этот мир.
Даже среди могил.
Именно в такие моменты во мне зарождалась поэзия.
Именно тогда я мог написать: «Сочинение „На тень тернового венца“», где в разделе «Попутное» было:
Лаца, лапца, кам бирука
И чавана лапив зука
Си ко катипава трака
Теки мака суки дака
Лак! Типона тики тук
Лакаврона ка ми шук
Шакава сыпона как
Жупирона таки чак
И вдруг мимо меня проскочило с десяток крыс. Они лопотали что-то по-своему – никак не разобрать. Меня они совершенно не замечали. Потом проскочил еще десяток, а затем хлынуло-хлынуло – одни только крысы-крысы – хлынуло, заполонило-заполонило, но вот и иссякло, и стихло.
Меня это насторожило.
– Калистрат! – позвал я и сейчас же обнаружил его рядом с собой. – Что происходит?
Калистрат тяжело дышал.
– Точно не знаю, – вымолвил он, – но с первого отсека передали: «Спасайтесь!» Теперь все бегут в корму, мой любезный друг, и я вынужден к ним присоединиться, – добавил Калистрат и тут же исчез.
Внутри меня нарастала тревога.
– Дух! – позвал я.
– Ну!
– Что происходит?
– Как щ-щщас трахнет!
– Где трахнет, где?
– Да в первом же. А потом и в третьем. Ох и пожар будет!
– Ты устроил?
– Нет. Короткое замыкание в силовой сети. Удар, как взрыв, потом пожар. Корабль обесточится. Лодка всплывет. В первом погибнут все. Из третьего уйдут в корму. Ты, твой хозяин и двое его друзей – останетесь во втором. Вы будете отрезаны от всего корабля. Вас причислят к мертвым на долгие дни, пока лодку не обнаружат, не возьмут на буксир и не приведут в базу. Во втором вы быстро съедите все запасы. Все, что найдете. Вы будете страдать без воды. Хотя… впрочем… да, со стен можно будет слизывать конденсат. В темноте твои приятели найдут фонарь и устроят настоящую охоту на крыс, которые не успели удрать. Берегись, Себастьян, они и тебя захотят съесть. Это все, друг мой. Удачи. Я должен быть в третьем.
Дух исчез. В кишечнике у меня похолодело.
– Наполеон! – вскричал я.
– Это великий миг гибели мира! – появился Наполеон. – Он потрясает сердца. Все ради великой империи – и обман, и подлог, и кровь, и страдания. И вот выясняется, что все это зря. Все напрасно, мой маршал. Все гиблое. Все пустое. Империя, ради чего ты была?
– Трах!!! – раздалось в тот же миг где-то там впереди. Лодку встряхнуло, и Наполеон исчез.
– Аварийная тревога!
Все, кто был рядом, убрались в третий, после чего раздался взрыв в третьем: трах!!!
Мой хозяин, Юрик и Шурик не успели выскочить из второго – дверь задраили перед их носом.
Шурик и Юрик кинулись и быстренько оказались у двери в первый.
А оттуда уже неслись крики, вопли, и я вдруг увидел, как в первом бушует пламя, как горит все-все, – кажется, даже воздух, и в нем мечутся люди, люди, они что-то пытаются делать, хватаются за все подряд руками и кричат – ох, как же они кричат, как кричат…
Видение пропало.
У Шурика и Юрика в глазах стояли ужас и слезы и пот струился по лицу. Они застыли у носовой переборки, а мой хозяин – у кормовой.
А в первом кто-то все еще бросается на дверь – еще и еще раз, пытаясь повернуть кремальеру, но Шурик начеку – он закрыл переборку на болт, который сунул в специальную дырку, и теперь он – этот болт – прыгает в своем гнезде, и кажется, вот сейчас выскочит, но нет – крики стихают.
Свет гаснет – мы в темноте. Кончено. Вторая часть.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Вот так и начинается вторая часть: крики, гарь, смрад и чад, но вот обломки, налетавшись по воздуху, приземляются, пыль успокаивается, свет гаснет, наступает тишина.