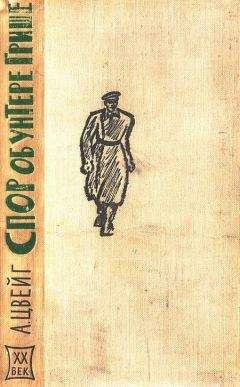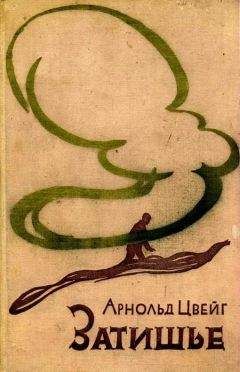И как бы в благодарность за преподанную житейскую мудрость Познанский засунул обоим рыцарям за борт мундира по две сигары.
Гриша покинул теплое помещение с чувством взволнованности и счастья, которыми так и сияли его глаза и все его существо. Он вновь был самим собою.
Слава богу! От Бьюшева и следа не осталось. Он, и только он, Папроткин, Григорий Ильич, бредет со старыми приятелями по весенней грязи. Теперь все выстраданное отпадет, как очистится сегодня вечером грязь от сапог; придется только потерпеть еще несколько недель, и все будет в порядке.
До сих пор какая-то часть его самого, казалось, была словно бледным отражением в зеркале, жила в каком-то отдалении от него, и только теперь, когда стекло как бы разбилось, эта часть слилась с ним в единое целое. Целый и невредимый, он опять среди людей, и если теперь к его жизнерадостности уже примешивается значительная доля осторожности, то это потому, что он приобрел опыт, стал рассудительнее.
Его душа, застывшая среди военной муштры, пробужденная живительным воздействием побега и смертельным ужасом, пережитым после приговора, начала стареть, становиться более мудрой. Он не сознавал этой перемены, но чувствовал ее по тому, как воспринял сегодняшнюю радость.
Тем временем Познанский собственноручно связал дело «Бьюшев — Папроткин тож» одной из тех пестрых ленточек, которыми деловитые фабричные предприниматели украшают пакеты с подарками. Тщательно сохраняемые пруссаками, эти ленточки обязательно вновь находят себе применение. Ныне черно-бело-красный витой шнур обхватил пакет с важными документами.
— Отправить в Белосток! — сказал, махнув рукой, военный судья.
Книга третья
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ШИФФЕНЦАН
Глава первая. Бумажное царство
В те дни страны Европы были сжаты железным кольцом войны.
С неистовой мощью, океаном отвратительных, умаляющих человеческое достоинство уничижающих страстей, свыше тридцати держав наседали — с целью прикончить наконец эпоху европейской братоубийственной войны — на район, защищенный от этого натиска лишь стеной фронта.
Борющиеся державы все не могли одолеть друг друга. Наряду с храбрыми австрийцами, турками, болгарами сражались против солдат остальной части земного шара также и немецкие солдаты. Мрачные, полуголодные, без танков, почти без самолетов и подводных лодок, они сражались, болели, проклинали, умирали в Палестине и на озере Дуаран, в Македонии, в Румынии и Италии, на территории всей Франции и Бельгии, вдоль Ламанша и Северного моря и до берегов Англии, далее на Балтийском море до Либавы и, наконец, в России, от Виндавы до Буковины — вдали от главных ставок, где бряцали оружием императоры и короли, принцы, маршалы, генералы.
А в это время в Париже, в Лондоне государственные люди и политики дрожали от страха — как бы немцы, отчетливо осознав свое положение, не решились на крайние меры.
Поскольку поражение Германии, после вступления в войну Америки, с каждым месяцем становилось все более реальным, немцы, пожалуй, могли пойти на крайний акт самоограничения: очистить восточный фронт, обеспечив неприкосновенность лишь германской границы, и перебросить все силы — около восьми миллионов бойцов, орудия, снаряды, газы, огнеметы — в какой-нибудь подходящий пункт западного фронта.
В случае удачи прорыва, при условии проявления Германией уступчивости в вопросе об Эльзас-Лотарингии и о восстановлении Бельгии, война уже не могла бы затянуться надолго, а это было бы равносильно победе Германии.
И вот немцы решили еще раз дать бой разваливающейся русской армии, в то же время домогаясь, при содействии папы римского, более приемлемых условий мира. Вот почему в Шампани, во Фландрии снова рвались снаряды, неистовствовали пулеметы, взлетали в воздух окровавленные куски человеческих тел, под переполненными людьми окопами взрывались динамитом подземные ходы, свистали над головами бегущих авиационные бомбы, пулеметы, треща, вышивали бесконечными узорами смерти полосу фронта, где сгрудились народы.
Чаши весов, на которых взвешивалась судьба войны, стояли почти вровень, чуть-чуть колеблясь.
Офицеры русской действующей армии, в особенности группировавшиеся вокруг Брусилова генералы, утверждали, что они в состоянии прорвать любой участок австрийского фронта. Русскому Временному правительству, которое состояло из либеральных буржуа и социалистов умеренной ориентации, а также из представителей старых монархических партий, казалось непристойным начинать существование нового режима поражением и большими территориальными уступками.
Только на крайней левой вожди промышленных рабочих, пролетариата в полном смысле слова, категорически требовали, в интересах солдатских масс, немедленного мира — пусть сепаратного; два миллиона убитых, почти четыре миллиона раненых делали их требования чрезвычайно убедительными.
Но покамест южная часть фронта — вся в озерах и болотах — еще лежала под водой. Весеннее половодье препятствовало военным действиям как раз на том участке, где, по мнению русских, восточный фронт был наиболее слаб и наиболее в силу этого притягателен. Настало время принять то или иное решение. Окровавленная Европа стонала, едва смея надеяться на скорое окончание своих страданий; миллионы людей безмолвно умоляли об избавлении от ужасов войны.
И народы своим простым, мудрым инстинктом чувствовали, что, независимо от тончайших расчетов и уловок убеленных сединами политиков, чем раньше будет заключен мир, тем выгоднее он будет для всех участников войны.
Писарь Бертин — поэт; он любит хорошую бумагу. Чистый лист из матово-белого, зернистого, гладкого вещества, с нежными неровными краями — таким он выходит при отливке массы из чана, — напоминающий о старинных дворянских грамотах, восхищает его осязание, глаз.
Он издавна собирал манускрипты: на английской бумаге ручного производства; на венецианской писчей бумаге, желтой и зернистой, которую изготовляли небольшие бумажные фабрики у реки Бренте; на больших толстых голландских листах с водяными знаками и вензелями.
Когда адвокат Познанский узнал об этой страсти Бертина, он направил его однажды в управление складами, в бывшее здание мервинской уездной управы. Там Бертин нашел сваленными в кучу множество томов в старинных кожаных переплетах с прошнурованными и скрепленными печатями страницами. Многие из этих томов уже валялись разрозненные, разорванные в клочки, — денщикам приказано было топить ими печи.
Перелистывая один из таких фолиантов, Бертин даже побледнел — такую досаду вызвало в нем это прискорбное расточительство. Одна за другой шли пустые страницы! На них были лишь едва заметные пометки коричневыми чернилами о том, что они оставлены неиспользованными. Бертин понимал по-русски, и им овладела лихорадка коллекционера, когда, вчитавшись в писанный текст, он обнаружил такие даты, как 1808, 1835, 1845, 1856 годы; это были записи о давно отмененных крепостных податях, уплаченных крестьянами помещикам и занесенных в книгу писцами, благополучно истлевшими, кости которых давно обратились в прах; дела о «душах», внуки которых, хотя и свободные от крепостного права, тем не менее умирали в царской армии или же влачили жалкое существование в качестве вдов и сирот.
Россия дней минувших, насквозь прогнившая!
А гербовая бумага! Она все еще лежит здесь нетронутая, лишь со случайными пятнами; разноцветная бумага: цвета слоновой кости, сизая и даже темно-синяя; она лежит уже сто лет и переживет еще много столетий, если удастся вырвать ее из рук денщиков, которые всю зиму растаскивали этот благородный материал на растопку печей.
Денщик Руппель вернулся из отпуска хотя и отдохнув, но сильно расстроенный — ему неизвестно, что происходит в Германии, но зато он доподлинно знает, как выглядит и сколько весит его жена. И так как никто не интересовался тем, чтобы найти какое-нибудь применение Грише, — хотя бы потому, что сам господин ротмистр Бреттшнейдер наслаждался четырехнедельным отпуском, — Познанский приставил Гришу к бумажному архиву, поручив ему вырывать из дел неисписанные страницы.
Гриша усаживался, смотря по настроению, на табурете во дворе или под навесом сарая; этот потомок крепостных уничтожал, не ведая этого, акты, в которых люди, ему подобные, фигурировали как подлежащее обложению налогами недвижимое имущество или скот.
Гриша сидел на корточках, согнув спину, перелистывал и вырывал страницы. От толстых связок бумаги поднималось облако пыли. Промерзшие листы холодили руки.
Птицы неугомонно щебетали и прыгали в саду уездного управления, отделенного от двора невысокой стеной. Миновали последние угрозы зимы. Сияющие легкие облачка плыли по синему, как цветы льна, волшебному июньскому небу.