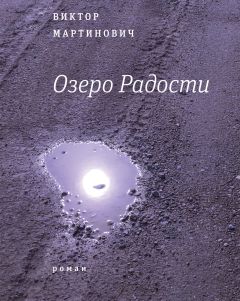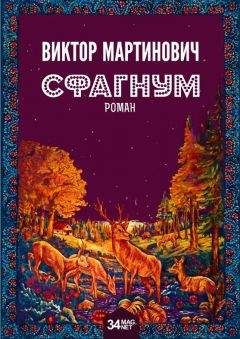Часть четвертая
Чувство, которое охватывает путника, когда он сходит с поезда в незнакомом ему городе без малейшей идеи о том, где будет ночевать, нельзя назвать неустроенностью. Неустроенность — слишком слабое слово для обозначения этого чувства. Неустроенность может испытать лоботряс, приехавший из Саратова поступать, когда неприветливая родня выделяет ему комнату без окна и рабочего стола, больше похожую на чулан. И вот он сидит в этой комнате под дырявым торшером, остервенело перелистывает сборник задач по физике, задачи не удерживаются в голове, от дивана пахнет котом, в носу першит от пыли, и он чувствует себя — неустроенным.
Тут же — совсем иная степень отчаяния. Тут, с первым вдохом дизельной копоти, пахнущей по-иному, чем на родине; с осознанием, что вот он, туалет, но ты не можешь в него попасть, потому что вход стоит десять рублей, местной валюты у тебя нет, а обменник, единственный на весь вокзал, закрыт; с первым взглядом на ментов, выдергивающих из толпы каждого десятого на выходе из вокзала — проверочка документов в надежде обеспечить себе мелкий гешефт; так вот, со всеми этими милыми детальками на путника спускается такое осознание собственной нежелательности, что хочется срочно уехать домой. Но это, как правило, невозможно. И ты чувствуешь себя зубной пастой, которую чья-то жестокая рука выдавила из уюта тюбика, тотчас же закрутив колпачок. И возврата нет, твоя уязвимая белизна сейчас будет размазана по чьим-то острым зубам.
Если мы примем во внимание отсутствие спасительной суммы денег в кэше или на карточке — денег, которые способны решить большинство проблем новоприбывшего, причем как с ночлегом, так и с милицией; если мы вспомним о космическом морозе, о грязном снеге повсюду, о шакалах, прыгающих на размякшего от длительного переезда гостя столицы с предложением довезти его куда угодно в пределах Садового всего за каких-нибудь семьдесят долларов, мы поймем, каково Ясе делать первые шаги по Третьему Риму.
* * *
— И самый дешевый вариант у нас будет… — в трубке слышно клацанье ноготков оператора по клавишам. — Семьсот пятьдесят долларов за однушку на Зоологической. Двадцать четыре квадратных метра, без ремонта. Есть кровать, сантехника — написано, правда, старая. Так что особо, знаете, не ждите… За такие деньги… На полу — линолеум. Заморозить этот вариант? У нас быстро все, что до тысячи, улетает. Поставить на паузу?
Яся сидит в чебуречной, в которой все состоит из пластика — стены, окна, стойка, посуда. Затянутая в пластиковый фартук девушка убирает с липких пластиковых столиков белую пластиковую посуду — она сгружает ее в пластиковый совок и опорожняет его в зеленую пластиковую урну, затянутую черным пластиковым пакетом. Закажи Яся чебурек, он тоже будет пластиковым — разогретым в микроволновке, желтоватым, тягучим, как потекшая пластмасса. Но она не может заказать чебурек. По причине, имя которой — Москва, чебурек с чаем стоят десять долларов. А потому Яся пьет чай, просто чай из пластикового стаканчика, гофрированного, как презерватив.
— Скажите, а ничего дешевле семисот пятидесяти у вас нет? У меня просто с деньгами туговато…
— Девушка, вы должны понимать, что семьсот пятьдесят — это, во-первых, очень дешево для Москвы сейчас. Во-вторых, это стоимость квартиры в месяц. — Голос в трубке становится строже. — При подписании с нами соглашения вы должны заплатить хозяевам за два месяца вперед и нашему агентству за услуги по поиску и сопровождению сделки — сумму, эквивалентную месячной плате за жилье. Итого получается по Зоологической — две тысячи двести пятьдесят, вносится при заселении. Это дешево, этот вариант сейчас оторвут, если мы его не притормозим. Так стопить или нет?
— А если комнату, допустим, снять? Комнату, а не целую квартиру?
Перед Ясей на липком столике — горка бумажного сора: вскрытый конверт с новой симкой, соглашение с мобильным оператором, газета «Жилье», название которой она в первый раз правильно прочитала с «у» вместо «и», счет за чай. Этот сор — все, что принесла ей новая жизнь. Бумажки бесполезны, но их страшно выкинуть — вдруг телефон потребует ввести пин-код еще раз. Очень многие вещи в нашей жизни мы держим возле себя именно по этой причине. Они бесполезны, но их страшно выкинуть. Для того чтобы почувствовать это, нужно собрать в рюкзак вещи, которых без стирки хватит на неделю, и уехать в город, где тебя никто не ждет.
— Девушка, у нас крупное международное агентство. Мы не занимаемся сдачей комнат. Мы ищем для наших солидных клиентов только отдельное жилье. Вам нужно обратиться к кому-нибудь помельче. Но вообще-то… — голос в трубке становится уютней. — Я лично вам бы не рекомендовала. В любом московском агентстве попросят внести плату за два месяца плюс гонорар, заплатите в итоге тысячу вместо двух. Не меньше точно. А что получите в итоге?
— Скажите, — перебивает ее Яся, — а если у меня есть только двести пятьдесят… Нет, уже двести двадцать долларов? Что мне делать? Просто по-человечески?
Тут обнаруживается нечто интересное. Выражение «по-человечески», в Минске пробуждающее гуманизм даже в постовых милиционерах, у оператора московского агентства недвижимости вызывает разряд ярости.
— По-человечески… — И все шипящие согласные озвончаются до оружейного щелкания. — С двумястами баксами в кармане я рекомендую вам сесть на поезд и ехать в Новгород! Поработайте там живым хот-догом в парке культуры, соберите денег и возвращайтесь! — Перед тем как повесить трубку, девушка выдыхает с такой яростью, что становится понятно: в ее жизни был эпизод работы живым хот-догом в парке культуры Новгорода, и она не склонна оценивать его как самый светлый момент в своей биографии.
Отложив умерший телефон, Яся понимает, что симку, чай и газету «Жилье» купила совершенно напрасно. Она запахивает куртку и выходит прочь из пластикового кафе. Мороз сразу же засовывает проворные ледяные ладошки в ее кеды. Эту обувь утеплить не удается даже двумя парами теплых носков. Обратный поезд на Минск ушел два часа назад, а потому ей придется провести в этом чужом и непонятном городе ночь. Над многоэтажками — полная луна. Она сияет чистым лимонным светом, как будто под ней не коптят жирными дизельными выхлопами автобусы, маршрутки и заляпанные по самую крышу смесью снега с грязью машины. Хорошо различимо пятнышко Моря Ясности, на берегу которого нужно сеть в лодку, чтобы попасть к Озеру Радости. У таких разных городов, как Минск и Москва, — одна и та же луна. У Ясиного детства и Ясиной юности — одна и та же луна. Когда она будет умирать — луна будет там же, на небе, и Море Ясности не изменит своих очертаний.
В Ясиных руках — карта Москвы. Ясины ноги в кедах — на теплой крышке канализационного люка. Лед вокруг люка оплавлен, по краю успела пробиться бледная травка, тут локальная оттепель, предоставленная теплосетью. Яся всматривается в карту и не может понять, что делать дальше. Карта — последний документ, к которому она пытается обратиться за помощью, — не сообщает ей ничего о том, куда можно пойти, чтобы переночевать в этом вымерзшем городе. Идущие мимо Яси люди закутаны в шубы и хмурой нелюдимостью похожи на операторов агентств недвижимости. В них отсутствует какой-то важный антропоморфизирующий атрибут. Их глаза не смотрят по сторонам, только под ноги. Это толпа пролов. Утомленных городом, заставляющим их работать по четырнадцать часов без выходных — просто чтобы платить аренду. Яся знает, что если она сядет на этот теплый люк, уткнет лицо в колени и задремлет, никто из них не остановится ей помочь. Никто не скажет: «Девушка, замерзнете насмерть!» Они будут обтекать ее, как стая рыб обтекает остов затонувшего корабля.
Среди этих косяков вдруг обнаруживается шерстящее их движение. Яся сначала обращает внимание на его направление и только потом на его источник. Некий субъект движется не вдоль проезжей части, а поперек тротуара, заставляя пролов вспучиваться и замирать. Он выносит из отмеченной массивными желтыми буквами химчистки ворох отутюженной и упакованной в целлофан одежды. Свои сокровища он складывает в приземистый автомобиль, в дизайне которого идея скорости победила идею респектабельности. Одет мужчина непривычно: торс затянут в плотный черный атлас со сложной вышивкой. Книзу наряд расходится тяжелыми складками, превращаясь в длинную юбку, прикрывающую обувь. На его груди — связка массивных ключей. Их размер отсылает к мыслям о дверях монастыря или храма. Ключи позванивают у самого пояса, сработанного из широкой полосы черного бархата. В Минске такого, пожалуй, примешь за аббата, в Москве он может быть кем угодно, даже торговцем китайским чаем на рынке. Его причудливость отфильтровывается в диапазон нормального. Подобных чудаков здесь слишком много.
Мужчина складывает в автомобиль последнюю порцию пакетов и, уже запрыгивая за руль, вдруг застывает, глядя на Ясю. Яся тотчас же отворачивается от чудака и вонзает взгляд обратно в карту. Внимательно рассматривая ее, она слышит приближение шагов. Каблуки у мужчины кованные. Они цокают, как копыта Люцифера.