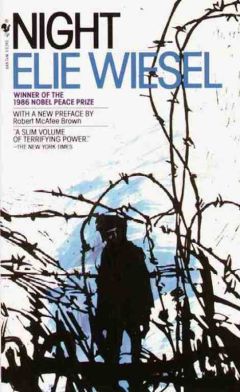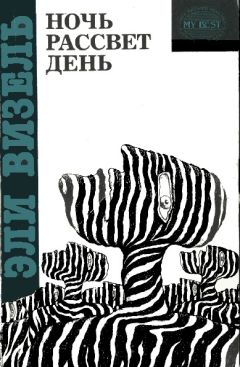— Вот именно, Болек, — отозвался Гамлиэль. — Разве это не довод, чтобы написать что-то другое, раскрыть другую истину, истину жертв?
— Истина жертв исчезла в столбах дыма, — сказал Болек.
И тут же добавил:
— Но ты, твое свидетельство, где оно? Ведь ты тоже уцелевший в Холокосте? И сверх того, по профессии писатель?
Уцелевший! Это слово уже давно раздражало Гамлиэля. Обесцененное, заштампованное, оно возникало повсюду. Все претендовали на него. Не обязательно было проходить через отбор Биркенау или через муки Треблинки. Достаточно было жить и уцелеть в европейской стране, подвергшейся угрозе или оккупированной после прихода Гитлера к власти. Сколько раз Гамлиэль слышал, как публичные ораторы, стремившиеся растрогать слушателей, с пафосом восклицали: «Мы все уцелевшие… Конечно, я родился в Манхэттене или в Чикаго, но я вполне мог оказаться в Лодзи или в Кракове…» Неужели они не понимали, что если каждый является потенциальным или виртуальным уцелевшим, то в действительности никого нельзя считать таковым? Как объяснить им, что ввиду подобной девальвации выжившие в конце концов начинают стыдиться того, что были там? Как заставить их не тревожить «память», ибо мертвые, исчезнувшие в столбах дыма, унесли с собой ключ от нее.
— Ты ничего не говоришь? — спросил Болек.
— Что мне сказать тебе? Это деликатный вопрос. Он заслуживает глубокого осмысления.
Если бы он не встретил Илонку, удалось бы ему уцелеть в самой жестокой из войн? Гамлиэль предпочитал называть себя не «уцелевшим», а «осиротевшим».
— Могу я сослаться на тебя? — осведомился Болек. — Что делаешь ты с тем, что называешь долгом памяти?
— Я в него верю. Но не знаю, как это осуществить. Возможно, я знаю, что сказать, но не знаю как. Порой мне кажется, что под моим пером слова перемешиваются и взаимно уничтожаются, вместо того чтобы следовать друг за другом в определенном порядке. В сущности, мне хватило бы одного слова. Однако это слово должно быть истинным. И я не знаю, откуда извлечь его.
Гамлиэль иногда спрашивал себя, как рассказать о своих мертвых родителях — так, чтобы это было достойно их, исполнено уважения к ним и выглядело убедительно? Что лучше? Молитва или крик? Быть может, молчание?
Гамлиэль проводил своего друга до дома. В молчании. Никогда еще улицы, прохожие, здания не казались ему такими враждебными. Он попытался представить гетто Даваровска, но не смог. Впрочем, был один вопрос, который неотступно преследовал его.
— Болек, кто казнил молодого Горовица? Ты?
— Нет, не я.
— Кто?
— Один из бойцов. Член моей группы.
— Его выбрал ты?
— Нет, не я.
— Он пошел на это добровольно?
— Я предложил жребий.
— Он не возражал?
— Ромек, его звали Ромек, был недоволен, но согласился. — Он помолчал и добавил: — Странно, но он, конечно, был самый неподходящий для этого человек. Отнюдь не самый примитивный, не самый задиристый в группе, напротив, самый замкнутый, самый интеллектуальный. Ромек все время что-то читал или изучал. Он всегда был погружен в книги, взятые в библиотеке гетто… когда мы скрывались от эсэсовских облав в нашем убежище или перед тем, как отправиться на завод, где работал бухгалтером. То, что жребий пал на него, было… было несправедливо. — Он оборвал сам себя, попытался неловко улыбнуться: — Занятно… Потом он беспрестанно потирал руки… Что ты хочешь, это война.
Он уже хотел открыть дверь своего подъезда, но передумал.
— Я пошел вместе с ним, — сказал он глухим, словно ушедшим вовнутрь голосом.
«Время остановилось.
В подвале молодой Горовиц смотрел на нас с вызовом и ненавистью. „Что ж, прекрасно. И доблестно. Немцы истребляют евреев за пределами гетто, а вы собираетесь убить еврея здесь. Как видно, вас это не смущает?“ Он ожидал, что я стану отвечать ему, взывать к нему, к его поруганной совести, к тому человеку, каким он был и который, возможно, еще оставался в нем, но мне не о чем было с ним говорить: время слов прошло. Я подумал: мой образ он унесет с собой в потустороннее. Навеки оскверненная часть моего существа угаснет вместе с ним. Какое-то время я смотрел на него. Молчание стало тягостным. Потом невыносимым. Его следовало бы нарушить одним словом, словом, которое с ухмылкой ускользало от меня. Внезапно зрение мое обрело странную остроту. Я увидел живой и неживой мир в новом, мучительно ярком свете. Я вдруг понял, что смотрю на Ромека, и на какую-то секунду мне странным образом почудилось, будто я теряю ощущение реальности. Вспомнились слова отца: ангел смерти покрыт глазами. Как Ромек. Я спрашивал себя, видит ли осужденный то, что я вижу. Я впился в него взглядом. Ничто от меня не ускользнуло. Я заметил, что правая бровь у него более густая, чем левая. Воспалившийся прыщик на левой щеке. Грязные ногти. От этой детали я пришел в раздражение: нельзя умирать с грязными ногтями. „Что же это такое? — гневно вскричал осужденный. — Вы ничего не говорите? Вы собираетесь убить меня, даже не поговорив со мной?“ Я хранил молчание, и это окончательно вывело его из себя. Несмотря на связанные руки, он дернулся, чтобы броситься на меня. Он походил на цирковое животное в клетке. В сущности, он имел основания для ярости. Ему предстояло умереть. Однако тот, кому предстоит умереть, имеет свои права, в частности право услышать человеческий голос, пусть даже голос судьи или палача. Поговорить с ним? Но что сказать? Что он убийца? Что, помогая гестаповцам, выдавая нас немцам, он уподобился им? Что в этот миг мы с Ромеком и он представляем человечество в его высших крайностях: служителей Зла и тех, кто Зло отвергает? Что в этот момент нашей жизни, в невыносимой атмосфере этого подвала, Вселенная, теряя одно из творений, сама теряет равновесие? Но разве не так же это было, когда немец убивал еврея? Слишком все это сложно. Почему бы не сказать ему просто, что у него прыщ на левой щеке и грязные ногти? Я ушел из подвала, оставив двоих мужчин одних. Прислонившись к двери спиной, я ждал, не смея дышать. Потом это произошло. И я почувствовал себя таким одиноким, как никогда прежде».
Болек махнул рукой, как если бы сам не верил в рассказанную им историю. Или в то, что она имела продолжение. Гамлиэль не стал просить рассказывать дальше. В тот вечер они больше ни о чем не говорили.
Но, вернувшись к себе, Гамлиэль невольно подумал, что молодому Горовицу — вообще-то, какое у него было имя? Странно, но Болек ни разу его не назвал — все же повезло: он до конца жил со своим отцом. Они вместе молились, вместе играли, вместе смеялись. А вот у Гамлиэля остался только неясный, смутный, едва различимый образ: шелестящее существование. Сколькими словами успели они обменяться? Сколько советов и воспоминаний оставил он сыну? Илонка на какое-то время заменила Гамлиэлю мать. Но кто занял место его отца хотя бы на краткий, преходящий миг? Шалом? Слишком молод. Рабби Зусья? Слишком стар? Нет: отцу было бы столько же. Но даже самый великий и самый щедрый из духовных наставников не может заменить отца. А если бы я последовал за ним в тюрьму, потом в лагерь? — спросил себя Гамлиэль. Тогда я не чувствовал бы пустоты, которая иногда уносит меня, словно черный вихрь.
Несмотря на усталость, Гамлиэль все так же бесцельно бродит по улицам и паркам Бруклина. Прохожие поглядывают на него с любопытством: кем может быть этот чужак, настолько поглощенный своими заботами, что порой разговаривает сам с собой и не замечает никого из встречных? Оказавшись у дверей больницы, он смотрит на часы и вновь продолжает свой путь. А что, если прямо сейчас, не дожидаясь докторши, пойти к больной? Вдруг она заговорит? Чудо всегда возможно. Медицина знает такие случаи. Некоторые пациенты просыпались после долгого сна, который длился неделями и даже месяцами. А иногда они говорят, пусть и на уровне подсознания. Бергсон, находясь в коме, прочитал блестящую лекцию, прежде чем умереть. Конечно, Гамлиэль не надеется услышать нечто подобное от старой изувеченной женщины. Зайти к ней или нет? Докторша обещала отвести его туда. Она ему нравится. Ее улыбка напоминает Еву. И голос тоже. Будь он помоложе, они могли бы пожениться. Но теперь уже слишком поздно.
Впрочем, разве не все в жизни Гамлиэля было слишком поздно?
Даже Колетт?
А ведь поначалу все, казалось, шло хорошо. Колетт обладала искусством и умением привязывать к себе тех, кто ей нравился. Каждый день она являлась к своему новому другу с подарками. Галстуки, рубашки, ремни, спортивные брюки и куртки — Гамлиэль их никогда не носил. Не желая обижать ее, он умолял не тратить на него столько денег.
— Раз тебя не интересуют материальные вещи, — восклицала молодая женщина, пылко обнимая его, — я даю тебе самое лучшее из того, что у меня есть.
Дав волю своему разнузданному воображению, она превращала их ночи в колдовские бдения неугасающей страсти и счастья.