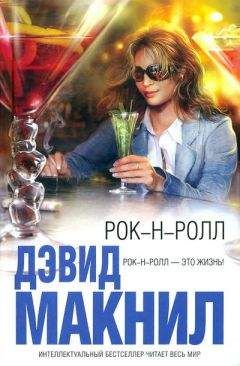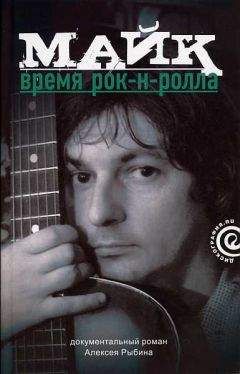— Странные вы все какие-то, согласись, — говорит Тана.
— Это смотря кого ты понимаешь под «нами всеми».
— Вы, мужчины. Все время твердите какую-то дурацкую бессмыслицу: «в жизни нет никакого смысла», «каждый умирает в одиночестве», «ничто ни от кого не зависит», «ничто ничего не значит».
— Если бы что-нибудь хоть что-то значило, — говорю я, — мама не умерла бы от болезни, которая, по совести говоря, должна была свести в могилу кого угодно, только не ее.
— Чушь это все. Я уверена, что твоя мама как жила, так и умерла не в одиночестве, — говорит Тана, провожая взглядом вереницу гостей, идущих от могилы к выходу с кладбища. — Может, в каком-то смысле мы все и вправду одни, дрейфуем в темноте и пустоте. Но все равно мы пытаемся выстроить отношения с близкими. Понимаешь, каждый из нас строит свой мир, в котором есть место тем, кого мы любим. Твоя мама умирала не в одиночестве. У нее были друзья, была семья, и даже если близкие порой ее обижали, она всегда чувствовала, что у нее есть дом, что есть люди, которые ее любят, на которых она может опереться.
Тана вновь ревет в голос. Я снова обнимаю ее и шепотом говорю:
— Прости… Ну, тогда… я не прав был.
— Ты тоже меня прости, — шепчет она в ответ и добавляет: — Только давай больше не будем об этом. Постараемся просто забыть.
Я крепко обнимаю Тану, и мы долго стоим так — две одинокие фигуры в глубине кладбищенской рощи.
Несколько дней спустя я возвращаюсь в отель «Челси» — как выясняется, в последний раз. Незаметно проскочив мимо Германа, бегом взлетаю по лестнице и подхожу к своей комнате. Замок в двери, оказывается, уже успели поменять.
— А вот и он, — объявляет Герман, когда я спускаюсь в холл и подхожу к его стойке.
— Привет! Какая-то фигня творится с ключами, дверь открыть не могу.
— И не говори. У меня тоже какая-то фигня творится — никак деньги за номер получить не могу.
— Ах, вот оно в чем дело…
— А еще я поговорил с одним приятелем из «Нью-Йоркера», они там про тебя даже не слышали.
Герман торжествующе улыбается и берет со стола здоровенную связку ключей. Я рассчитываю на то, что он поднимется и откроет мне номер, но вместо этого он отпирает кладовку за своей спиной, и я вижу, что моя дорожная сумка и пишущая машинка уже перекочевали сюда.
— Спасибо за то, что выбрали наш отель. Удачи на поэтическом поприще.
Я, надрываясь, подтаскиваю свое барахло ко входу и вдруг вижу, что дверь мне любезно придерживает Нейт.
— А, Человек Травы! — орет он во все горло. — Ты где пропадал?
Я смотрю на Кей, стоящую рядом с Нейтом. Она в упор не замечает меня, пристально разглядывая что-то на полу прямо у нее под ногами.
— Только не говори, что сваливаешь от нас.
— Да вот, переехать решил, — отвечаю.
— Ну ладно, удачи тебе и все такое.
Кей наконец вступает в разговор:
— Слушай, надо бы выпить чего-нибудь вместе. Посидим, угостим тебя на прощание…
— Ну, не могу, не могу я, детка, понимаешь, — говорит ей Нейт. — Я ведь обещал этой репортерше из «Роллинг стоун», что перезвоню, и должен был это сделать, наверное, час назад. Сейчас, кстати, сколько времени?
— Ну, тогда я пойду в бар и угощу его на прощание, — с вызовом в голосе говорит Кей.
По такому знакомому коридору мы идем в «наш» мексиканский ресторан. Буквально месяц назад тут зародились наши отношения, ну а сейчас мы здесь же произведем им вскрытие и выпишем свидетельство о смерти.
— Что случилось? Куда ты пропал? — спрашивает меня Кей, когда бармен приносит нам заказанную выпивку.
— Да так… В Корею вот ездил, хотел с тобой повидаться.
Ее глаза в течение нескольких секунд словно играют в классики. В них отражается то смятение, то виноватость, то какие-то упреки, то сожаление и грусть.
Наконец, взяв себя в руки и вернувшись на исходную позицию, Кей переспрашивает:
— Ты ездил в Корею? Так почему же ты не…
— Нейт.
Кей снова принимается изучать пол.
— Клянусь тебе, я понятия не имела, что он туда приедет. А он взял вдруг и нарисовался ни с того ни с сего.
— Ну да, с морем цветов, как мне рассказали. И с камешками.
При этих словах я выразительно смотрю на нитку бриллиантиков, сверкающих у нее на шее.
— Это все я виновата, — говорит она. — Внушила тебе, что с Нейтом все кончено, а потом…
— Да неужели?
— Ну да… Господи, что же я наделала, мы ведь с тобой… То есть ты… Ты был просто потрясающим. То есть ты и есть потрясающий, ты заслуживаешь такого счастья…
Я поднимаю руку — хватит, мол.
— Во-первых, сделай одолжение, избавь меня от прощальных речей. Сам не раз и не два уходил от девчонок и хорошо знаю, что ты сейчас чувствуешь.
— Ничего ты не представляешь. Ты понятия не имеешь, что я сейчас чувствую…
— А во-вторых, смею тебя заверить, я имею именно то, чего заслуживаю.
Задумчиво помолчав, Кей произносит:
— Я тогда совсем запуталась. Да и ты пропал. Я ведь, когда вернулась, хотела с тобой увидеться. А тебя все нет и нет. Записки не оставил, телефона я твоего не знаю, сам не звонишь.
— Знаешь, как-то, прямо скажем, не до того было.
— Мама? — осторожно спрашивает Кей.
Я киваю и ловлю на себе ее искренне сочувствующий взгляд.
— Ты, наверное, меня ненавидишь, — тихо произносит она.
— Ненавижу? Вовсе нет, — почти искренне уверяю ее я. — Расскажи хотя бы в двух словах, как у Нейта дела? Я так понимаю, им уже «Роллинг стоун» интересуется. Карьера на взлете.
— Ну, типа того… По крайней мере на данный момент. Что будет дальше — кто знает.
Я чувствую, что в ее душе дверь для меня снова приоткрыта, через узкую щелочку вновь пробивается луч надежды.
— Кто знает.
На прощание мы тепло обнимаемся и расходимся. Я тащу на себе баул и пишущую машинку до конца квартала, затем сворачиваю в переулок и пристраиваю свой багаж прямо на тротуаре. Дальше я иду уже налегке. И, оказавшись на станции, сажусь в первую же электричку, идущую до Левиттауна.
Еще пару недель я мотаюсь как сумасшедший, из дома на работу и обратно, а затем меня вызывают к Первосвященнику, в ту самую квартиру в Нижнем Ист-Сайде. Мне толкуют о том, что в экономике спад, возможно лишь сезонный, а потому работы для всех Лиц Фирмы не хватит. На самом же деле я прекрасно вижу лежащий перед Первосвященником свежий номер «Пост», открытый на странице с репортажем о первом дне судебных слушаний в скандальном процессе «штат Нью-Йорк против Дэниэла Карра». В общем, истинная причина моего увольнения мне абсолютно понятна. Пейджер мне ничего плохого не сделал, и я не представляю, как можно разбить такую замечательную вещь, швырнув ее об пол или стену. Выходя из квартиры, я отдаю «Моторолу» Билли.
Против ожидания мы с отцом оказались на редкость комфортными соседями. Я имею в виду, что мы не лезем в жизнь друг друга, и более того, нам даже удается поддерживать дом в относительной чистоте. Из уважения к памяти мамы или, быть может, просто из какого-то суеверия мы, не сговариваясь, перестали курить в доме. Теперь мы набиваем окурками банки из-под кофе, которые пристраиваем на крыльце с той стороны дома, которая так и осталась обгоревшей после пироманского эпизода у Дафны.
Через несколько дней я наведываюсь к ней в больницу. У Дафны отросли волосы до плеч, и она перестала краситься в блондинку. Я рассказываю ей о том, что случилось с мамой, и у нее на глазах появляются слезы. Но мне сейчас важно даже не это: в глазах Дафны я снова вижу, казалось, безвозвратно потухшие, но вновь заигравшие с прежней силой искорки. Когда же и меня накрывает и по щекам у меня начинают течь слезы, Дафна обнимает меня и шепчет на ухо:
— Ничего, все будет хорошо.
Я беру себя в руки, и она провожает меня до выхода из клиники.
— Врачи говорят, что я иду на поправку, — сообщает она мне. — Значит, получается, мне удалось обмануть их.
— Так что же, психоневрологическая фаза твоей жизни подходит к концу?
— Ладно, неделю-другую комедию поломать еще придется.
Похоже, чувство юмора вернулось к ней: я вижу перед собой все ту же хорошо знакомую Дафну. Я вспоминаю, как влюбился в нее, как пара лет разницы в возрасте казалась таинственной пропастью, разделявшей нас, пропастью, которую нужно было срочно преодолеть. Она познакомила меня с «Рамонес» и Джонатаном Ричманом [25]. Именно с нею я научился выдерживать пьянки и гулянки по три дня кряду. Именно с ней мы занимались сексом едва ли не в открытую в общественных местах. Именно она научила меня тому, что любовь и боль порой идут рука об руку. Когда мы познакомились, я был наивным, самоуверенным восемнадцатилетним юнцом, быть может чуть более счастливым, чем сейчас, благодаря наивности и отсутствию жизненного опыта. Того человека больше нет — я стал другим и таким, как был, больше никогда не буду. Тем не менее сейчас, глядя на Дафну, я вижу, что в ее глазах отражается тот самый мальчишка, почти подросток.