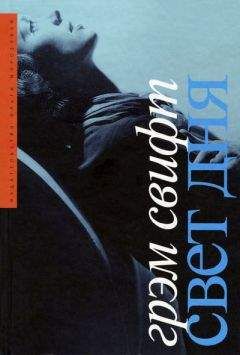Взгляд старшего по должности. Полицейский всегда и везде должен быть полицейским. Выходит, я его подвел, Марша?
«Я должен был вмешаться раньше», — сказал я.
«Вы о нем беспокоились — о мистере Нэше — или о ней?»
Я должен был вмешаться в Фулеме, после той квартиры, но я дал ему пройти. Решил, что с ним обошлось. С ним и с Сарой. С нами всеми.
«Вы относились к ней… к миссис Нэш так же, как к другим вашим клиентам?»
«Можно с ней повидаться? — повторил я. — Хотя бы на минуту».
Он посмотрел на меня так, словно в рот ему попало что-то нехорошее. Кремень в глазах то появлялся, то пропадал.
«Вы знаете, что я этого не могу», — сказал он. Его руки по-прежнему лежали на моих показаниях.
Он довольно долго на меня смотрел — казалось, стоял на краю какой-то расселины и, может быть, даже нуждался в моей помощи.
Пододвинул ко мне мои показания.
«Ну ладно, — сказал он. — Я думаю, достаточно. Подписывайте».
Потом добавил:
«Между прочим, мы добрались-таки до Дайсона. Теперь не выкрутится. Сядет надолго».
Включаю сцепление и еду. Почти полпятого. В офис надо вернуться самое позднее в пять сорок пять. Встреча с миссис Лукас. Но я знаю, куда мне нужно сначала. Теперь, в темноте.
Он сел в «сааб», посидел, потом поехал. Я проскользнул в свою машину, увидел, как он тронулся с места, и последовал за ним, как будто мы — одна команда.
Я думаю, он проделал три мили до Уимблдона, понимая, что это в последний раз (но не зная, что вообще в последний раз сидит за рулем). От Кристины всегда возвращался точно крадучись, нехотя, но уступая. Каждый приезд домой был маленькой пантомимой. Можно было не спрашивать, где он был, и нелепо было спрашивать, как у него прошел день. Фарс, мучительный фарс. Но лучше несчастливый мир… — так она мне сказала. Говорила ли ему?
В камерах, наверно, уже зажгли свет. В определенный час его всюду разом выключают.
Чем это могло кончиться? Он хотел, чтобы война — там, у них — длилась вечно. Или чтобы хорваты проиграли, были разбиты, поруганы — так что ей пришлось бы распрощаться с мыслью о возвращении на родину. Плевать ему было на убитых, на искалеченных. А ведь медик. Человечная профессия. Ревность к ее стране, к Хорватии, как ревнуют к другому мужчине.
Выходит, лучше несчастливая война…
Но хорваты победили — он проиграл.
Чем это могло кончиться? Что ж, теперь он знал — или почти знал. Квартирой в Фулеме, похожей на опустевшую клетку. Он мог остаться там насовсем. Но каким-то образом вырвался.
Значит — свободен?
У него брезжила надежда: если уж этому суждено кончиться, не станет ли он тогда снова «собой», настоящим Бобом Нэшем? И только тот, другой человек будет страдать. Но не был ли тот, другой (и в этом вся суть), подлинным Бобом?
Всякое возвращение — мучительный фарс. Но так ли уж велика была боль, так ли уж велика плата? Ничего похожего на это, теперешнее. И боль, так или иначе, действовала только в одном направлении. Она утихала, едва он отправлялся в Фулем. Настоящую боль, он знал, терпела Сара. Так почему же она продолжала его пускать, почему не выставила вон?
Только по одной причине, по одной невыносимой причине.
Так что если этому суждено было кончиться, он, казалось, мог бы даже испытать облегчение, мог бы вздохнуть полной грудью. Казалось, мог бы даже почувствовать себя спасенным.
В те последние дни он выглядел — Сара потом мне сказала — странно спокойным. (Хотя его спокойствие могло означать и то, что у него есть тайный план.)
Но теперь он знал. Он и вышел из той квартиры, и остался в ней. Он был где-то высоко в ночном небе и понятия не имел, домой он движется или нет. Он и был настоящим Бобом Нэшем, и не был.
Из Фулема — в Уимблдон. Я за ним. Расчухал он наконец? Все время одна и та же машина сзади.
Доехав до Фулем-Пэлис-роуд, он повернул налево, в сторону Патни, и я, как дурак, кажется, даже издал радостный возглас. Вдруг, как дурак, возликовал — обрадовался за Сару, которая совсем скоро услышит его машину. И мы все будем спасены.
Мост Патни-бридж. Черная, невидимая река внизу. Патни-Хай-стрит: сияние магазинов. «Супердраг», «Боди шоп», «Маркс энд Спенсер». Безопасный, знакомый мир.
Мимо вокзала, мимо светофора, вверх по Патни-хилл. Кольцевая развязка у Тиббетс-корнер, поворот на Уимблдон.
Меньше мили от кладбища Патни-вейл.
Да, он возвращался. Длинный прямой отрезок по Уимблдон-Парксайду. Слева — Парксайдская больница. Никаких сумасшедших выходок — хотя опять знакомое место, куда могли бы ввезти на каталке. И все-таки я, сам того не зная, наблюдал за ним в последние минуты его жизни.
Справа парк Уимблдон-коммон, темный как лес. Потом поворот на тихие, ухоженные улицы, где окошки домов светятся среди деревьев точно фонарики.
Теперь я сам еду в Уимблдон и знаю зачем. Новая попытка. В темноте, как тогда.
Расскажу я ей когда-нибудь или нет? Что он сначала поехал на ту квартиру. Не прямо домой. Что я ждал снаружи. Ждал, смотрел.
Первое правило полицейской работы: не ввязывайся. Не допускай случившееся до себя. Тут есть своя красота: дело принадлежит к ведению полиции и, значит, имеет к тебе прямое отношение — и в то же время тебя не касается. Осматриваешь место, ведешь расследование — и только. Иначе как ты будешь работать? Своя красота: ты не затронут, защищен. Твой пожизненный мандат: я полицейский. Я из полиции, пропустите.
То же самое у Боба — в его мире. Необходимая отрешенность, необходимая сталь. Я всего-навсего ваш гинеколог. И, разумеется, они ему доверяли — его женщины. Профессионал. Надежные руки. Они рассказывали ему интимные вещи. Иной раз даже, когда ситуация этому способствовала, могло возникнуть — ему ли не знать — нечто большее, чем доверие.
Но не ввязывайся, не ввязывайся.
Они, наверно, тоже благодарили его даже за плохие новости. Сидел перед ними с рентгеновским снимком в руках, с результатами анализов. Но у него не было в запасе оговорки, какая есть у бывшего полицейского, у недобросовестного полицейского. Не обязательно давать этому ход, это может остаться здесь, у меня. Мы можем даже все уничтожить.
Есть вещи, которых лучше не знать.
Я так и не сказал маме, что мне давно все известно. Этого по крайней мере ей узнать не довелось. Она услышала только последние слова отца. Последние хрипы. Мой родной отец умирал, но был момент, когда я готов был его придушить.
Как я расскажу Саре? Что даже после того, как мысль пришла мне в голову, я продолжал сидеть в машине. Как будто на плечо легла чья-то рука, чужая рука: оставайся на месте.
Тебя не касается. И ты теперь даже не полицейский. И о том, что ты здесь был, никому знать не обязательно. За тобой никто не наблюдает.
И даже добросовестные полицейские иногда опаздывают.
Как я ей расскажу? Что я выскочил из машины, увидел его — и сердце у меня прыгнуло. «Сердце прыгнуло»: слова. Что меньше чем за час до того, как она его убила, я обрадовался ему, возликовал от мысли, что он скоро будет ее.
И, конечно, новости — рентгеновский снимок, анализы, результаты осмотра — иногда бывают и хорошими. Власть, которую тогда чувствуешь. Свет, которым озаряются их лица. Все нормально, порядок, можно не волноваться.
Чего еще я мог желать, кроме как посмотреть до конца, убедиться? Потом исчезнуть, как Кристина, улетевшая в Швейцарию.
Чему я обрадовался? Своему собственному освобождению?
Еду по Бичем-клоуз. Как будто я — это он, Боб Нэш два года назад.
Ничто на этот раз меня не останавливает, никакой невидимый барьер. И его ничто не остановило, хотя надо было остановить. Полосатую ленту протягивают после события.
Темень, тишь. Десять минут шестого — а кажется, что глубокая ночь. Освещенные окна за живыми изгородями и калитками точно пятятся от меня.
Знает ли улица, помнит ли? Этот вечер, этот самый вечер два года назад. Дом четырнадцать. Давайте-ка двери на замки, никого не впускать — на всякий случай.
Но тогда все, конечно, было по-другому, все было наоборот. Она ждала его — она ждала и ужин ждал на этой их замечательной кухне. Нельзя запереться от того, что внутри.
Или забыто? Сознательно изъято из памяти, из архива? Пропавшее досье. Нет, это не здесь. Вы обознались.
Улицы в Дубровнике. Улицы хорватских деревень. Стены, дворы, площади. Да, это произошло здесь.
Так или иначе, за два года улица меняется. Люди въезжают, выезжают. Память тускнеет. В какой-то момент, не сразу, новоприбывшему, может быть, говорят: «А вы не знали?..» Но жизнь идет своим чередом.
Даже сам четырнадцатый номер. Он ведь не стоит пустой, как заклейменный дом, как дом, на котором проклятие. Его даже довольно быстро удалось продать. Я знаю. Низкая цена ради ускорения. Нормальная практика. Соблазнительное предложение — такая улица, такое престижное место. Работа риэлтора, его проблема. Правда, прошел уже не один месяц. И как бы то ни было, покупаешь — смотри, на то и глаза.