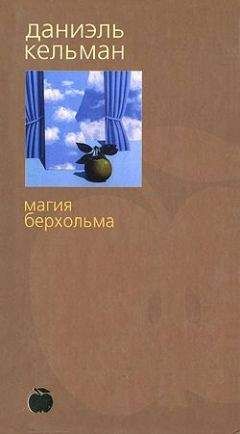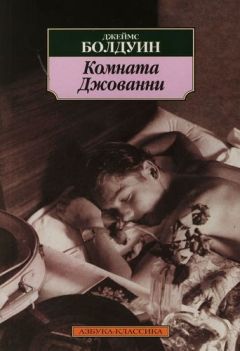Потом мы уехали. На вокзале меня ожидала разъяренная толпа. Зрителям вернули деньги, но тем не менее они были оскорблены. Какое-то мгновение мне казалось, что они собираются меня линчевать, но до этого не дошло. Они всего лишь хотели постоять, злобно уставившись на меня. Отяжелевший от дождя ветер донес до меня два проклятия, несколько ругательств, и на этом все кончилось. «Сюда, – прокричала какая-то женщина, – вам больше приезжать незачем!». Я, собственно, и не собирался.
Было много других мест, ничем не лучше. Я выполнил условия турне, дав все выступления, которые нельзя было отменить. Я приезжал, выступал, кланялся и ехал дальше. За одинаковыми окнами поездов пролетали одинаковые пейзажи. Я раздавал автографы, и повсюду меня подстерегали таящие в себе вспышки дула фотокамер. Вечер за вечером я стоял перед черным занавесом, щурился на свет прожекторов и повторял шаги и движения. И по мановению моей руки происходили одни и те же предсказуемые чудеса; и черная бесформенная масса публики разражалась одними и теми же возгласами удивления.
В надежде – на что собственно? на смену обстановки? на предзнаменование? – я полетел на Ближний Восток, ради одного короткого высокооплачиваемого выступления. Возможно, я просто хотел познакомиться с королем (но он оказался мал ростом, смугл, вежлив и неприметен), может быть, я хотел увидеть пустыню (но там была только фата-моргана, а в ней ты). Может быть, я надеялся, что буря, посланная моим демоном-хранителем, сметет с небес маленький самолет, как это случилось с ван Роде. Однако ничего подобного не произошло; я долетел благополучно, хотя и окутанный холодной дымкой транквилизатора и страха. Но я никогда не забуду приземления в закате над пустыней, этого падения с горящих небес в бесконечность раскаленного песка, под солнцем цвета апельсина-королька и уже взошедшей серебряной полной луной.
Возможно, я напрасно вернулся. Мне следовало остаться там, в море зноя и света. Волшебство родилось на Востоке, в мире базаров и волшебных предметов. Заклятия, столетиями не утрачивающие свою силу, обитаемая пыльная лампа Аладдина. Больше я ничего этого не вижу, но, может быть, это и к лучшему. Почти во всех дворцах сегодня живут убийцы в униформе, а на базарах продают сувениры туристам в ярких рубашках. Джинны в лампах стали редкостью. А тому, кто обречен вечно разочаровываться, не стоит и путешествовать, – зачем?
Поэтому я вернулся домой, в то место на планете, которое было предназначено мне жизнью. (Как несправедливы эти «здесь» и «сейчас», непрошеные, неизвестно зачем избороздившие нашу жизнь! Почему не где-нибудь еще? Почему не всегда?) В аэропорту меня поджидали тележурналисты. Не знаю, что они хотели увидеть; все, что я мог им предложить, – это пройти мимо с чемоданом в руке и со злобным выражением лица.
– Позвольте задать вам один вопрос!
– Нет! Не позволю!.. – И все. Они что, все помешались – лишь бы получить у меня интервью?
Меня встретил Вельрот. Нет, от тебя писем не было. Ты куда-то уехала, он не знал куда и с кем, он вообще ничего не знал. Не послать ли вслед за тобой частного сыщика? «Нет», – сказал я резко, к тому же во второй раз за день. Вельрот пожал плечами и больше не возвращался к этой теме.
А неделю спустя я опять давал представление. «Еще одно, – умолял Вельрот, – еще одно выступление, приехали тележурналисты, будут транслировать на всю страну, это очень важно! А потом вы возьмете отпуск. Сможете расслабиться». (Неужели он думал, что я буду загорать на пляже и читать журналы?) Ну ладно, ответил я, еще одно. Как-нибудь.
Но день не задался с самого начала. С утра, тотчас по пробуждении, увидев первые бледные солнечные лучи, я понял, что день не задался. Я порезался при бритье, и длинная царапина на удивление сильно кровоточила. Ночь была долгой, я спал еще меньше, чем обычно. Три или четыре таблетки беллодорма тяжело, неповоротливо циркулировали у меня в крови. У меня болела голова. Кофе не помогал, аспирин тоже.
Утро сменил хмурый полдень. Я позвонил тебе, никто не снял трубку. Может быть, детектива все-таки стоило… Но это же глупо: ни один земной соглядатай не найдет тебя, пока ты сама этого не захочешь. Корреспонденция: Кинсли, глава «Brotherhood of Magicians», спрашивал, можно ли использовать мою фотографию в рекламных целях, a «Who's Who» просил сообщить некоторые факты моей биографии: «Скажите, пожалуйста, кто ваш отец?» – «Дорогой Кинсли, – писал я, – человеку не принадлежит его внешность и уж тем более ее отражение на покрытой слоем серебра пленке. Поэтому поступайте, как вам будет угодно. И все-таки я скорее предоставил бы свою фотографию в распоряжение духовой капеллы, добровольной пожарной дружины или ветеранского союза убийц-маньяков, нежели вам. Остаюсь преданный вам…» A «Who's Who» я ответил так: «Меня усыновил некий Берхольм и его добрая жена, они заботились обо мне и любили меня. Моя родная мать не имеет ко мне отношения, тем более что сомнительное биологическое родство меня не интересует и не может интересовать. Отца у меня нет и никогда не было, ни в физическом, ни в духовном смысле. Если вас озадачил мой ответ, просто не печатайте его… Остаюсь, ваш…»
Между тем наступил вечер. За окнами моего кабинета повисло несколько тяжелых комковатых туч; голова болела все сильнее. Еще кофе! Руки у меня слегка дрожали. Я закрыл глаза, и тотчас же меня осенил замысел совершенно нового, абсолютно необычного фокуса. Я открыл глаза, схватил карандаш, записал его. Неплохо. Да все равно… Я взял листок и хотел было его разорвать, но потом передумал, сложил его, надписал: «Подарок», сунул в конверт и отправил Хосе Альваресу. Вот так.
Потом я переоделся. Простой костюм, темный пиджак, как всегда. Чем проще, тем лучше. Лишь бы это не походило на традиционный фрак фокусника с блестящими лацканами. А вот и звонок. За мной зашел Вельрот.
Два часа спустя я мог начинать. Все было готово, мои помощники облачились в черные маскировочные костюмы, зрители, вполголоса переговариваясь, заполняли зал.
«Вы не могли бы принести мне чашку кофе?» – спросил я. Вельрот кивнул. Я сидел перед зеркалом в гримерной и ждал. Я был несколько бледен, несмотря на грим, и сам себе казался слишком старым. Я вдруг подумал, что мне еще нет и тридцати. И несколько секунд этому удивлялся.
Потом я вышел на сцену. Свет, аплодисменты, черный занавес. По рядам кресел скользнула тень камеры. Я сухо поклонился. И начал.
Тебе хотя бы однажды, неважно, по какой причине, приходилось несколько раз подряд смотреть в сущности неплохой фильм (той, прежней, глянцевито поблескивающей, черно-белой эпохи)? Тогда ты, наверное, знаешь тот момент, когда скука внезапно переходит в чистейшее, беспримесное отвращение, в чувство, что это невыносимо, люди на экране снова делают и говорят то же самое и тебе известно наверняка, что сейчас произойдет. Вообрази, это бледная тень того, что меня тогда переполняло. Что я вообще здесь делал?… Боже мой, да что это за бессмыслица?…
Но я продолжал. Я стиснул зубы (не метафорически, а на самом деле) и приказал своему усталому телу, своему сопротивляющемуся духу подчиниться. Вспыхивало пламя, появлялись и исчезали предметы; гремели аплодисменты, раздавались удивленные и восторженные возгласы. Боже мой, как меня раздражали эти звуки! Неужели они не догадывались, что я им лгал? Они не хотели об этом знать?
Я поднял над головой колоду больших, раскрытых веером, отливающих зеленым игральных карт и, как всегда, ощутил множество взглядов, притягиваемых моей рукой. Я как раз собирался сделать свободной рукой быстрое движение, повинуясь которому карты вырывались у меня из руки и принимались лихорадочно, точно насекомые, кружиться вокруг меня, – и тут все пропало. Вокруг меня сомкнулась плотная и прохладная, почти приятная тьма. Я больше ничего не видел и ничего не слышал.
Пожалуй, это продлилось недолго. Но во времени попадаются омуты: мне показалось, что я довольно долго спал и видел ненужные печальные сны. На какое-то мгновение мне почудилось, будто я в монастырской келье в Айзенбрунне. Потом наваждение исчезло. Приглушенные звуки, точно сквозь вату; светлые точки сложились в целостную картину.
Я по-прежнему держал руку в воздухе. Но она теперь сжимала не все карты; несколько лежали на полу, а одна медленно, очень медленно, паря, пролетела мимо моего лица, вот ее подхватил поток воздуха, швырнул за край сцены, и она пропала во тьме. По залу пополз шепот. «Что случилось? – тихо пробормотал чей-то голос. – Вам плохо?» Это был не призрак, а Пауль, мой ассистент. Я опустил руку и уронил карты; они шлепнулись на пол. Шепот стал громче, раздраженнее. Я потер глаза. Все казалось мне таким нереальным, даже я сам, словно я был созданием чужого воображения. Что я здесь делаю? Я не волшебник, уже не волшебник. Я превратился в комедианта, актера, в идиота, развлекающего публику. Мерлин был далеко, заключенный в темную пещеру, мертвый, недосягаемый. Никакой магии не существует, есть только глупые законы природы. Я потерпел неудачу. А с этими людьми там внизу я ничем не связан, мне незачем здесь оставаться. Поэтому я повернулся. И пошел.