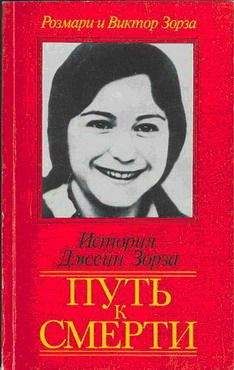В свою очередь, осматривая Джейн, доктор Меррей услышал подобные вопросы. Она больше не спрашивала про боли, про болезнь как таковую: что делает рак с организмом, распространяется ли он? Когда боль усиливалась, ее занимал только настоящий момент. Теперь же ее интересовало будущее. Хотя Джейн не спрашивала, может ли она выздороветь, вопрос этот висел в воздухе. Доктор Меррей рассказал ей об опухолях в ее желудке, в костях и о том, что он постарается сделать, чтобы облегчить ее страдания. Если бы его спросили прямо, он сказал бы примерно так: «Нет, ты не выздоровеешь». Но он не мог ответить так прямолинейно, «в лоб». Еще за день до этого его удивило самообладание, с каким Джейн думала о смерти: такое не часто увидишь у молодых людей. Но ведь именно по причине молодости ее настроение могло так быстро меняться. Он понимал, почему эти смены настроения тревожили Виктора, и решил поговорить с ним напрямик. Врач не пожалел для отца ни времени, ни внимания, словно тот был его пациентом.
Дэвид Меррей рассказал отцу Джейн о том, что иногда у умирающих меняется настроение и они не хотят мириться с мыслью о смерти.
— Кое-кто поступает к нам с сильными болями, хотя и не в такой степени, как у Джейн, — сказал он, — но нам удается с этим справиться. Потом, когда боли стихают, пациент думает, что он поправляется. И не может понять, почему он так слаб. В голове складывается простая формула, боль означала, что я умираю, а если боли нет, значит, я иду на поправку.
— И Джейн так думает?
— Если даже и не думает так постоянно, то, видимо, иногда задается таким вопросом. Когда физические страдания идут на убыль, в человеке пробуждаются решимость и желание жить. А Джейн так молода, и мы должны учитывать инстинкт самосохранения. Она не смогла бы его подавить, даже если бы рассудком смирилась со смертью. Этот инстинкт — огромная сила, и, видимо, он сильнее разума.
— Значит, нужно вернуть ее к реальной действительности, — твердо сказал отец. — Нужно напомнить ей, что она умирает. Как вы считаете, это лучше сделать мне или вам самому?
— Мы не будем форсировать события. Пока пациент не готов, его не пугают такой информацией. Она уже проявила готовность к смерти. Но это улучшение временное, есть разница между тем, что было вчера, и тем, что мы видим сегодня, все может измениться завтра. Или даже через несколько часов.
Вернувшись в комнату Джейн, отец спросил, как она себя чувствует. Дочь ответила просто:
— Я счастлива.
Счастлива? Какое странное слово, если учесть все обстоятельства. И все же она его часто употребляла: и в Дэри-коттедже, когда утихала боль, и в хосписе, когда удалось взять эту боль под контроль. Она говорила «счастлива», чтобы выразить состояние своей души, и хотела передать его отцу. Он делал вид, что тоже счастлив — да, он сделал бы все, чтобы она была счастлива. Если она счастлива, значит, и он тоже — во всяком случае, на словах, потому что для него слова эти ничего не значили.
Но ее нельзя было обмануть.
Джейн сказала:
— Пап, ты это только говоришь. Так не годится. Есть только один способ сделать тебя счастливым. Способ этот — откровенно поговорить.
Он никогда не говорил с дочерью откровенно о своем собственном отношении к смерти, особенно все эти месяцы, когда его занимала лишь одна мысль: смерть Джейн.
Когда доктор Салливан сказал Джейн, что ее ждет, она решила поменяться ролями с отцом. Она пыталась довести до его сознания, что он что-то скрывает. Сначала это было в Дэри-коттедже, потом в хосписе, когда между ними опять установилась духовная связь.
— Пап, ты видел смерть столько раз, — начала она осторожно, когда он сел у ее кровати. — Ты должен легче принимать все, что происходит.
Виктор понял, к чему она клонит, и не стал придумывать, а начал рассказывать так, как было.
— Действительно, впервые это случилось, когда мне было лет шестнадцать и я оказался на советско-германском фронте. Я перед этим сбежал из Сибири. Это я уже рассказывал.
— Нет, пап, не рассказывал, — запротестовала Джейн, пристально глядя на него. — Ты об этом времени никогда подробно не рассказываешь. А мог бы и рассказать. Так что же там случилось?
Рассказать ей всю историю? — думал отец.
Кое-что он уже рассказывал: о своем детстве в Польше, скитаниях во время войны, о том, как потерял всю семью, потом сбежал из России. Но он всегда опускал какие-то важные детали. Сейчас Джейн задавала прямой вопрос, и на него следовало ответить.
— Это было в то лето, когда немцы напали на Россию, и я попал в самую гущу событий. Я уже был один, остальную семью поглотила война. — Он замолчал.
— Ты был на фронте? — тихо спросила Джейн.
— Мы были за линией фронта, на русской стороне, в основном женщины, старики и такие же подростки, как я. Нас перегоняли, как скот. Мы рыли противотанковые рвы, которые должны были по идее остановить немецкое наступление. Но однажды нас погрузили на телегу, чтобы везти туда, где спешно строилась целая сеть земляных укреплений, и повезли мимо армейской части, которую вроде бы заново формировали для фронта. И вдруг все солдаты бросились врассыпную, чтобы укрыться. В течение минуты слышался только топот ног и ржание лошадей, затем все стихло. Потом мы поняли, в чем дело… Над нами гудел самолет, но не реактивный, к которым привыкло твое поколение. Звук его напоминал нечто среднее между треском мотоцикла и гудением шмеля, плюс еще шум травяной косилки.
— Трудно себе представить, — сказала Джейн. — А что ты чувствовал, когда слышал гудение самолета, который вот-вот сбросит бомбу?
По дороге двигалась только наша телега да трактор, который ее тянул. Мы почти миновали солдат, но, видимо, наш тракторист решил проехать дальше, прежде чем самолет начнет бомбить. Телегу сильно трясло, но нам было не до того. Мы — я по крайней мере — смотрели вверх, но ничего не видели. Но вот неподалеку, там, где раньше находилась воинская часть, вдруг поднялись в небо земляные столбы, которые падали вниз настоящим дождем. Вместе с землей падали обломки телег, грузовиков, разорванные лошадиные трупы, обрубки человеческих тел, и только после этого слышались взрывы. Их перекрывал треск пулеметных очередей, которые все приближались к нам.
Мы видели, как пули взрыхляли пыль на дороге позади нас. Тракторист оглянулся, заглушил мотор и спрыгнул с трактора в канаву у дороги — мы и оглянуться не успели. Все последовали за ним, но я решил сделать лучше. Вдоль канавы лежала какая-то труба, и я подумал, что смогу залезть в эту трубу. Просунул голову в отверстие и обнаружил, что остальное тело не проходит. Я все пытался втиснуться в эту проклятую трубу, а бомбы уже взрывались, все ближе и все громче, и чем-то меня било, как будто мощными кулаками. Это камни и комья земли колотили по моему телу, голова была прикрыта. Все длилось секунду. Потом я услышал крики и стоны. Самолет улетел. Я вытащил голову из трубы и огляделся. Мало что осталось от тракториста, да еще от нескольких людей. Я похолодел от страха, мной овладела какая-то запоздалая паника. — Виктор прервался. Уже много лет он не вспоминал тот день.
—Понимаю, — сказала Джейн, — мне кажется, я знаю это чувство. В больнице оно ко мне приходило. Так было во время операций, я могла смириться с ними, но потом меня одолевал страх. Я думала: «Удастся ли мне когда-нибудь избавиться от него?» Мне было страшно, я паниковала, чувствовала слабость. И я слабела, ведь я ела очень мало.
— Ты и сейчас не очень-то много ешь. Но ты уже не беспокоишься. По крайней мере внешне. Боишься? — он посмотрел на дочь.
— Нет, папа. Я не боюсь и надеюсь, что такой же и останусь, если ты мне поможешь. Ты мне так сильно помог в Дэри-коттедже, когда мне в самый первый раз сказали, что со мной. А ты просто садился рядом и говорил… говорил.
Он дотронулся до руки дочери.
— Джейн, ты была к этому готова. Ты уже жила с этой мыслью несколько месяцев, я тебе, собственно, и не был нужен. Я говорил, чтобы помочь скорее себе, чем тебе.
Виктор не знал, как продолжать дальше. Их разговору чего-то не хватало. Он специально не говорил о том, как сам боялся смерти во время бомбежки. Может, именно это и хотела услышать его дочь?
Она словно прочитала его мысли.
— А почему ты попал на фронт в шестнадцать лет?
—К тому времени, Джейн, я потерял всех и вся. Когда началась война, немцы оккупировали Польшу с запада, а русские — с востока. Это не была просто война между армиями. Все куда-то двигались, население целых городов и сел перемещалось с места на место, вернее, перемещалось то, что оставалось от населения после боев. В конце концов я оказался в Сибири. Но я сбежал. Мне хотелось вернуться туда, где я жил раньше, где мог опять увидеть свой народ, дома, горы. Я пытался вернуться на родину, в Польшу, хотя и знал, что немцы в то время согнали большинство евреев в концлагеря и установили в стране страшный террор. Но что это значило для меня в сравнении с моим страстным желанием попасть домой, обрести свои корни! Об опасности я не думал. По-моему, мне даже это нравилось: я считал, что попаду к партизанам, стану героем. Конечно, это было нереально, но мне так этого хотелось!