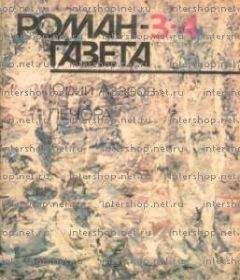— Шпионят, — это Черя сказал им в спину.
— Не смей так говорить, — это я.
— А что, неправда?
— Не твое дело, — это скова я.
— Почему так жизнь устроена? — это Саша.
— Жизнь прекрасно устроена, — это снова я.
— Вам так надо говорить? — это Алик.
— Конечно, мне за это деньги платят. А если бы не платилн, — я бы говорил: «Черт знает что, а не жизнь».
— Хмы, — это мальчики. Все разом.
— А почему вы с нами возитесь?
— А я не вожусь. Это вы со мной возитесь, — мой ответ.
— Как это?
— Очень просто. Если бы не вы, я б умер. Лицо вспыхивает у Светы, а затем румянец переходит к Оле.
— Значит, мы вас спасаем?
— Конечно, и за это вам надо доплачивать из моей зарплаты. С северными, разумеется.
— Лучше из зарплаты Марьи и Ивана, — это Черя.
— Не смей так говорить… — это я, И Свете: — Света, накинь пальто.
— Жарко, не могу.
— Я кому сказал!
Света смотрит на меня, как иной раз смотрит мать на своего ребенка. И нежность, и улыбка, и игра в строгости.
И я вижу, что у Светы сегодня появилось что-то такое, чего не было ни вчера, ни позавчера. Появилось что-то такое, что выше и сильнее всего на свете, по крайней мере у женщин, одухотворенность: у этой девочки засветилась не просто весна, в ней засветилась та спокойная, жизнелюбивая страсть, которая будет ей верным, долготерпящим и милосердным другом на многие годы потом.
И когда еще двадцать лет пройдет, Света мне скажет: «Без этого я была бы другой».
И я был другим. И я хотел утверждать доброе и светлое в этой жизни, потому что. чужд был мне нигилизм, зряшное отрицательство никогда я не принимал. Рационализм Сальери — дело тупиковое. «Все говорят: нет правды на земле, но правды нет — и выше» — эта формула не для меня. К моей душе прилип совершенный образ весны, которая отсвечивает сейчас и в глазах Светы Шафрановой, и в глазах Оли Бреттер, и в глазах Чери и Саши Надбавцева.
И этот прекрасный свет согревает меня, будто приближаюсь я к свиданию с моей единственной любовью, приближаюсь к той тайне, которая дает мне силы. А потому и иные формулы соединяют меня с этим прекрасным миром, с моими детьми:
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь…
Самые прекрасные слова на уроке могут выполнять лишь дежурную, формальную роль — работать на оценку, на бездуховное прохождение, материала. Настоящая педагогика урока начинается там, где от школьной обязательности отслаивается и западает в душу подлинная духовность. Когда нешкольное состояние души рождает в каждом, пусть еще слабенького, кого-то третьего. Талант, мужество, гражданский поступок, человечность — вот какой он в детях, этот некто третий. А потом он может вырасти в каждом до исполина. Вот для чего в школе нужна любовь. Без любви пушкинских учителей — Куницына, Энгельгардта, Малиновского — не было бы ни Пушкина, ни его друзей — Пущина, Дельвига, Кюхельбекера. Только великая любовь и великое, страдание могут подвигнуть человека к свершению подвига. Не мельчить. Не размениваться на мелочи. Всю жизнь думать о главном шаге своем, о главной цели своей жизни.
Мимо нас проехала машина. Это Новиков. Черя сплясал ей вслед:
— Калинка, малинка моя, в саду ягода-малинка моя.
— Не смей, — сказал я.
Коварный замысел Новикова, должно быть, осуществился. В один день, а может быть в два, все вдруг вокруг меня изменилось. Силой неслыханной волны меня сбросило с моего цицероновского гребня, швырнуло оземь с такой небрежной, жестокостью, что едва я сумел опомниться.
Первым кинулся на меня с враждой Рубинский. Он принес мне книгу, которую я ему на день рождения подарил. Хорошая книга про искусство Италии, дорогая книга, и ему очень понравилась, так вот он эту книгу мне бац на стол, перед самым носом.
— Мне эта книга не нужна, — сказал он.
Сказал и вышел, не глядя в мою сторону. Я удивился.
Вечером я зачем-то забежал к Екатерине Ивановне.
— Мы уходим, — сказала она. И дверь захлопнулась перед моим носом.
В этот же день, чтобы испытать, что же произошло, я отправился к Вольновой. Когда я проходил мимо дома, увидел ее лицо: занавеска чуть-чуть была приоткрыта. Я еще ей помахал ручкой, и она, я это точно видел, закусила нижнюю губу.
На мои звонки никто не ответил. Я стал стучать. За дверью свирепо лаяла собака. Но дверь так никто и не открыл.
На следующий день я встретился с судмедэкспертом Толей Розднянским. И он смотрел на меня удивленными глазами.
Я метался, не до конца понимая, что же произошло. Догадывался. Ощущал омерзительный смысл моей новой тайны. Теперь Новиков открыто смеялся мне в лицо.
Стукач. Я не знал этого отвратительного слова.
Не любил я вообще жаргона. Еще как-то переносил нецензурность — там хоть первородность была. А слова, перекрученные, вторичные, в которых изъят, отчужден первозданный смысл, внушали чувство нечистоплотности. Одно дело — первородная грязь с огородной грядки. Она чистая. И другое дело — грязь мусорной ямы, где зловония, гадостность, удушающая мерзость отдает разложением. Такое ощущение было у меня от слова «стукач». И касательства оно ко мне не имело. Так мне казалось до определенного времени.
И случилось это не сразу. А начало было положено в одно из таких тихих утр, когда в мою комнату постучали.
Человек в шапке и в пальто пристально смотрел на меня. В пристальности были и уважительность и доверие. А я всматривался в него, чувствуя что-то неладное. Лихорадочно всматривался, чтобы найти какую-либо деталь, чтобы понять что-то. Такой деталью оказался краешек кителя с кантом. Мой взгляд перебросился вниз: ну да, сапоги.
— Что вы хотели?
— Можно войти на секунду?
— Входите.
— Прекрасно. Вы не беспокойтесь. Я из ЖЗЛ.
— Мне нечего беспокоиться.
— Вам необходимо, если у вас найдется времечко, прийти по этому адресу. Второй этаж, комната пятьдесят семь.
— Это что, опять насчет Морозовой? Я же все объяснил.
— Не знаю. Я выполняю чисто посредническую роль. Не забудьте, завтра в восемнадцать тридцать.
На следующий день, озираясь по сторонам, я нырнул в подъезд двухэтажного дома. Снаружи я обратил внимание, что окна правой стороны дома зарешечены, а левой — украшены занавесками и цветочками. На крохотной вывеске, впрочем весьма аккуратной, совсем новенькой, золотыми буквами было выведено- ЖЗЛ. Пятьдесят седьмая комната находилась с левой стороны.
— Пожалуйста, — сказал человек в штатском.
Этого молодого человека лет тридцати я уже однажды видел, и тогда он был в железнодорожной шинели с капитанскими погонами. Я еще спросил: «Новенький?», а Рубинский мне ответил: «Сейчас, с этой реабилитацией, сюда повалило столько новеньких». — «Кто же этот капитан? — спросил я. — Что-то лицо больно знакомое». — «Из железнодорожной прокуратуры, должно быть», — ответил мне Рубинский. А я спросил еще: «А что, есть и такая?» А мне ответил Чаркин: «Б Греции все есть…» Я еще подумал, что за глупость совать всюду эту Грецию. Как бы то ни было, а этот человек в моем сознании зафиксировался не как инспектор, каким он, по всей вероятности, и был, а как капитан определенного ведомства, которое разбирало всякие сложные житейские дела, мнимые и настоящие преступления и, разумеется, все, что связано было с реабилитацией. А так как в те времена о ведомствах такого рода не принято было говорить вслух, то и о капитане, то есть об этом инспекторе больше ни у кого не спрашивал, а про себя всегда называл этого человека капитаном.
Итак, человек в штатском приподнялся и предложил мне раздеться. Я снял пальто и сел напротив. Очевидно, на лице моем было некоторое беспокойство, хотя я и улыбался.
Я, конечно, как мне казалось, понимал, куда я попал. Сюда не чаи приглашают гонять. Для проформы так назвали этот дом — Жизнь Замечательных Людей. Тоже мне конспираторы! Раньше он по-другому назывался. Тоже три буквы, но совсем другие.
Настоящий страх шел от этих домов. Этот страх рос вместе со мной. Я мог возмущаться, фанфарониться: никого не боюсь, мне плевать! А страх, некто четвертый, я о нем потом расскажу, сидел во мне спокойно, прочно, он проживал во мне свою защищенную жизнь — Жизнь Замечательных Людей.
Я улыбался, а губа предательски уходила несколько в другую сторону. Кончики губ будто ослушивались, точно ими за ниточки подергивал некто четвертый.
Наконец десятым чувством я осознал, что мне неуместно улыбаться. И я мгновенно проглотил улыбку. И от этой торопливости тоже что-то нескладное получилось, отчего некто четвертый сладко расхохотался внутри.
Я поразился: этот сидящий во мне некто из пятой колонны был заодно с ними. Он жил во мне. И предавал меня. Хозяйничал и распоряжался. Он был цензором и стражником. Он был моим домашним, тайным, коварным, независимым, совершенно автономным полицмейстером. Теперь в этой просторной светлой комнате — два стола, один к другому, зеленое суконце, чернильные приборы, портрет ратоборца, открытая форточка, два сейфа с большими номерами на боковой стороне, пол выщербленный, лампы настольные — в этой небытовой, нетипично канцелярской комнате мой некто четвертый почувствовал себя как рыба в воде. Сначала он выпрыгнул из меня, на одной ножке поскакал, попрыгал на сейфе, а потом стал раскачиваться, как это делают детишки, когда перед прыжком размахивают руками, и сиганул на мои вихры, отчего волосы зашевелились до самых корней. Он нагло отбивал чечетку, отчего мне было щекотно, и, очевидно, сидящий напротив капитан видел этого легализовавшегося стражника и подмигивал. ему. А мне не видно, что же отвечал ему мой тайный, жезеэловец. Я сделал попытку согнать моего стражника с головы, даже рукой провел по волосам, а он изогнулся и выскочил меж пальцами. Я повторил попытку, а он спрыгнул с головы и стал корчить рожи откуда-то с угла форточки. Самый раз бы мне под каким-нибудь предлогом резко двинуть форточку, дескать, дует, простужен, да не тут-то было, раскусил он мои планы, оттолкнулся от форточки, отчего она качнулась, и прыгнул к потолку, ухватился по-обезьяньи за провода и повис так, точно собирался плюнуть в мою сторону.