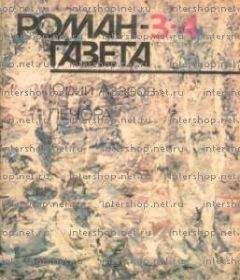— Вам не надует? Можно закрыть форточку….
— Нет. Нет. Я закален, — ответил я.
Какой смысл захлопывать форточку, если этот мой сожитель качается на проводах. Другое дело бы залезть на стол да оттуда попытаться его схватить, но что скажет, капитан, который и так рассматривает меня с некоторым удивлением.
И вдруг во мне что-то заклокотало. Вдруг набралась неожиданно та ослепительная сила буйного негодования, которая была замешена на ненависти, на яростной силе оправдательного поиска.
— Никаких свидетельских показаний я давать не буду! Я уже говорил в прошлый раз… — так я и отрезал, чем обозлил того четвертого, который слетел с проводов и успел-таки, мерзацец, плюнул мне в левый глаз.
Мне несколько стало неловко за его резкую выходку.
— Странно, — сказал капитан. — Люди не имеют представления о нашей работе и полагают, что раз их сюда пригласили, значит, намерены в чем-то обвинить…
Он встал и зашагал по комнате. Его лицо стало огорченным. Он даже заметил, что здесь в работе он сталкивался с разными реакциями людей: одни кидались в оправдания, другие резко дерзили, их еще ни о чем не спрашивали, а они уже несли всякую чушь; не имеете права, я член такой-то партии, столько-то лет работал, был на выборных должностях, кровь проливал, нервы изнашивал. Господи, чего только не несут здесь люди, еще не зная, о чем их будут спрашивать. Вот был случай: пригласили как-то одного счетовода, так, для справочки пригласили. А его как бросило в истерику: «Пощадите, дети у меня, дочка беременная, внука жду, все отдам, только оставьте на свободе. Это не я, а Семыкин прикарманил казенные деньги». Вот и пришлось нам в другие учреждения передавать дело счетовода. У нас каждый человек замечателен. Потому и называется наше учреждение, как вы заметили, по-новому. Вы ведь тоже по-своему замечательный человек.
— Узкая серия человеческих типов, — пробормотал я.
— Как вы сказали? Узкая серия?
— Это слова Макаренко. Он говорил, что нам не нужна узкая серия человеческих типов, нам нужны творческие люди.
— Именно замечательные люди. Поэтому их жизнь нас и интересует. А вы в долгу перед нами. Вы должны были зайти к нам по делу Морозовой.
— Я все сказал вашему человеку.
— Ну, положим, не все.
— Дело в том, что у вас с Морозовой есть не только общие знакомые…
— У меня?
— Так случилось, что все, что коснулось сейчас вас, когда-то коснулось и меня, но об этом потом. Я могу назвать этих знакомых. Тут нет секретов, Тарабрин. Бреттеры. Солодовникова. Пока хватит?
— А кто такая Солодовникова? Я не знаю такой.
— Значит, других вы знаете?
— Конечно, знаю.
— Прекрасно. А Солодовникова — это племянниница Бреттера, и вы с ней встречались в доме Бреттеров.
Капитан говорил так, будто уличал. И если бы он по-доброму не улыбался, то создалось бы у меня впечатление допроса.
— Значит, вы не станете отрицать, что знакомы с названными людьми?
— Разумеется.
— Вот это как раз и надо нам было уточнить.
— И для этого вы меня вызвали?
— Пожалуй, для этого, если не считать еще одной детали.
Я посмотрел вверх. Некто четвертый устроился на крапленой золотистой раме, в которой под стеклом улыбался великий ратоборец. По-доброму улыбался. И некто четвертый будто подражал ему:
— Вот и все, милый, мн-л-л-л-л-ый, — губы некто четвертый вытянул в трубочку, точно желая обозначить, что он принадлежит к неопределенному полу, а теперь подражает, точнее развивает свое женское начало. Мой сожитель затем расхохотался, уцепившись за лацкан кармана великого ратоборца, и, демонстрируя высокий класс пилотажного искусства, спикировал вниз, а затем снова взмыл вверх и уселся на портрете, свесив ножки так, что они закрыли смеющиеся, искрящиеся глаза на портрете.
— В нас правда. Только правда. Вся правда! — трещал мой сожитель. — От меня никуда и никому еще не удавалось уйти. Невидимые нити связывают меня с людьми. Эти нити — вечные пуповины. Они со дня рождения человека.
Я повел рукой по груди и почувствовал что-то липкое на рубашке. Неужели пуповина? Что он мелет, мерзавец?
А сожитель хохотал держась за круглый животик:
— Чего смотришь? Желудок у меня такой. Недокармливали меня в детстве. Вот и вытянул на рахитичность.
Капитан, должно быть, наблюдал за мной. Его лицо светилось добротой. Еще немного — и он кинется ко мне с откровенностью:
— Поймите меня правильно, мой дорогой, мы ведь оба и справедливцы и правдолюбцы, а в жизни так много нечисти, что приходится прибегать к мечу, а не только к убеждению.
Оттуда, сверху захлопали. А взгляд у великого ратоборца стал еще пристальнее.
А капитан бы мог при этом продолжить:
— Вопрос стоял всегда так: или за социальные преобразования, или против социальных преобразований. У нас нет выбора: или за человека, или против человека. Мы за человека! А вы? За полное его развитие. За гуманистические условия, когда все братья. Я ваш брат, поймите, я ваш братик. У вас не было, черт побери, братиков? А как прекрасно звучит это словцо. Братик. Согласитесь, есть в нем что-то. Братство. Братание. Давайте же, черт подери, с вами побратаемся. Не бойтесь же. Я не нумизмат. Неужели вы такой неопытный? Только так можно по-настоящему побрататься. Так крепче держитесь за стол. Я начинаю брататься. Я первый предложил. Поэтому вы расслабьтесь, совсем, и глаза держите закрытыми. Так положено. Вы должны довериться. Совсем довериться. Положиться на меня. Какое у вас прекрасное тело. Спорт — это всегда хорошо. Только злоупотреблять нельзя. Слишком много мышц — это как-то вульгаризирует.
Наверху снова захлопали в ладоши. Великий ратоборец одобрительно улыбался.
— Только вместе. Вместе с рабочими и крестьянами можно одержать нравственную победу… Вы ведь из крестьян? — говорил капитан, проявляя нетерпение. — Крестьяне — это звучит чисто. Да-да. Не та грязь. Грязъ с полей — это не грязь, а плодородие. Плодородие — вот смысл, дорогой. Я плодоношу, ты плодоносишь. Одним словом, плодоовоэди, — и капитан засмеялся так громко, что мой сожитель закрыл глаза тюбетейкой. — Мы все должны плодоносить, — трещал он, нащупывая во мне что-то тайное и, может быть, постыдное.
У меня вдруг закружилась голова.
— Форточку, нельзя ли открыть форточку?
— Она открыта, — сказал капитан. — Можно шире, совсем настежь, пожалуйста.
— Нет, достаточно.
— Так вы не отрицаете, что знаете Солодовникову?
— Как же я могу отрицать, когда я видел её.
— И, разумеется, при необходимости где угодно можете подтвердить, что знаете её?
Я понимал, что идет какая-то игра. Несмотря на братание, у меня все же обострилось и недоверие. Что-то барахталось во мне, должно быть, мой некто третий шевелился. Но я помнил, что когда вылетал из меня этот мой сожитель, то он успел перевернуть некто третьего, своего антипода, вниз головой таким образом, что голова застряла в желудке, а ноги и руки были зажаты между седьмым и двенадцатым позвонками.
— О нашем доме анекдоты ходят, — сказал капитан и рассмеялся. — Видите, он не отличается от других двухэтажных домов. Так вот анекдот. Спрашивают: «Почему прекратились нецензурные анекдоты?» Ответ: «Тот, кто их сочинял, раньше жил напротив нашего дома, а теперь живет напротив своего дома». — Капитан посмотрел на меня. — Остроумно?
— Я не понимаю намеков, — сказал я.
— Опять? Да нет к вам у нас никаких претензий. Больше того, когда я вас спрошу об одном одолжении; вы поймете, как мы к вам относимся.
— Какое одолжение?
— Вы хотите сказать, что никаких одолжений вы нам не намерены делать.
— Никаких!
— Ну зачем же так, ми-л-л-л-ый? — снова губы в трубочку. — Мы же побратались. Мы же теперь неразделимы. Конечно, мы всегда были за идею, против кровности, пусть хоть брат брату животик распорет, мать пригвоздит к кресту, лишь бы идея, великая идея была живой и прекрасной. Кстати, заметили, что нигде и никогда женщин не распинали на кресте? Только мужиков. А почему? Уважение к слабому полу? Нет. Другое здесь. Так вы говорите, Солодовникова интересная женщина?
— Я этого не говорил.
— Но вы ее знаете. И не станете отрицать, что вы ее знаете.
— Не стану.
— Прекрасно. Вот и всё. Больше от вас ничего не требуется. Распишитесь вот здесь.
Чуяло мое сердце, что никак нельзя было мне брать ручку в руки. Что нельзя даже под правдой подписываться. А вот взяла рука ручечку…
— Ну, давай, чего тянешь, тряпичная твоя душа, — кричал сверху сожитель. — Надо, братец, готов я с тобой тоже побрататься. Не дрейфь, семь бед — один ответ.
Я прочел бумажку, вырванную из какой-то амбарной книги в черную линейку, не очень широкую, не очень узкую, внизу слово «Подпись». В бумаге было написано, что такой-то виделся дважды с названными поименно гражданами, знавшими Морозову, кончившую самоубийством в ночь на девятнадцатое февраля 1955 года, а также, что подписавшийся участвовал во вскрытии тела Морозовой, при этом интересовался придатками.