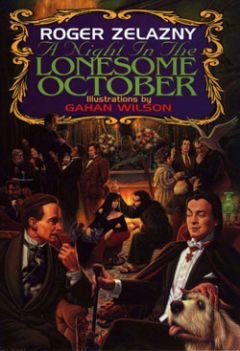Ох и проклял же я себя!
А Оля и не думала фиксировать внимание свое на позорных моих действиях, она лишь переспросила:
— Так на кого же?
«Надо, Павел Родионович, надо собраться и отвечать толком, если не хочешь завтра утром за палаткой шмыгать носом. Улыбнись, пацан! Хорошо, морда твоя противная в тени, а то было бы зрелище!»
— А я помесь, Ольга Макаровна. Типичная. Нос отца — Родиона Николаевича — из тех мест. Глаза и брови матери, Елены Павловны. Ее же уши. Масть в отца — неудавшийся блондин, по-русски таких называют сивыми.
«Так тебе, слабачок. Так тебе, — приговаривал я про себя. — Сивый ты и есть мерин».
— Пойду костер затопчу да покурю, — сказал я, натянул быстро сапоги и, сильно скрипя голенищами, выбрался на четвереньках из палатки.
Костер не нужно было гасить: те редкие тусклые угли и сами отойдут. К тому же ночью дождь будет. «Дождь будет, — затягиваясь, как насос, думал я. — Ни звезд, ни отблеска — глухое небо запечаталось тучами. И воздух сырой, тяжелый, процентов девяносто в нем влажности. И тепло. И росы нет. Будет дождь как пить дать».
Дождя из высоких туч можно не очень пугаться. Ну вымокнем. Ну вести маршрут будет неприятно. Но возвращаемся-то мы к палатке. И дрова здесь есть, и еда. А это самое главное. Хуже будет, если к тому прибавится туман. У этих речек масса боковых притоков, и можно в тумане так заблудиться, что и знать не будешь, где шагаешь. Этого бы не хотелось.
С сообщением об ожидаемом дожде я, накурившись, вернулся на свой спальный мешок.
Оля лежала на спине поверх мешка с закрытыми глазами.
— Умаялась, Оля? Давай-ка укладываться. Ты пойдешь еще дышать воздухом? Или застегивать палатку?
— Пойду, — ответила она, резко встала и тряхнула головой. — Действительно уснула. Даже сон начал сниться. Вы укладывайтесь, а потом я.
Оля надела теплые тапочки, предусмотрительно прихваченные в маршрут, набросила на себя ватник и выскользнула из палатки.
Я быстро разделся, аккуратно все сложил на сапоги в головах: так я всегда устраиваю «подушку», люблю, чтобы голове было высоко; и только успел залезть в мешок, как за палаткой послышалось:
— Можно?
— Можно, можно. Входи.
Она на коленях вползла в палатку, повернулась, и я наблюдал из мешка из-под клапана, как она долго застегивает вход. Потом она постелила ватник, сверху спальник накатила. Я видел ее лицо с чуть сонными глазами, с припухлыми губами, четким профилем, мягким подбородком. Никогда я так долго и так близко не любовался этим милым сонным лицом. Никогда в жизни на душе у меня не было так спокойно и тоскливо. Закончив приготовления, Оля быстро взглянула на меня, и я в тот же момент перевернулся на левый бок. В тишине я слышал, как поскрипывают расстегиваемые пуговицы, как шуршит свитер, сползающий с Олиных плеч… Потом Оля задула свечу, долго устраивалась в мешке и наконец затихла, а через некоторое время сказала:
— Спокойной ночи, Павел Родионович.
— Спокойной ночи, Оля. Удобно устроилась?
— Хорошо, только камень дрянной под мешком оказался. Но я его обогну как-нибудь.
— Если все же мешать будет, двигайся в мою сторону. Места хватит.
Она промолчала. И наступила тишина. Только речка шумела слева от палатки. Я люблю засыпать под бормотанье и всплески реки, но в этот раз сон долго не приходил ко мне. Примерно через час начал накрапывать дождь, и он оказался более надежным снотворным.
10
Я понял, почему Саша Окунев не смог закрыть «дыру». Ему помешал туман. Я уже говорил о том, что нужно было переваливать в соседнюю долину прямо через водораздел. А в тот день, судя по его дневнику, был «сплошной туман». К тому же продукты у них кончились. Не захотел Окунь рисковать, тем более, если верить карте, по ту сторону водораздела их ожидали очень крутые склоны с обрывами.
Он не захотел. Теперь рискнуть предстояло нам с Олей, потому что случилось худшее — проснулись мы на дне гигантского облака, и взлетать, а тем более рассеиваться оно не собиралось: ветра не было. Облако-туман. Может быть, это обычный вынос с моря, заполняющий молоком долины, а наверху ждет солнце и голубое небо?
Мы покинули лагерь без двадцати девять. И еще не перешли речки, а уже палатка исчезла — такой плотный был туман. Путь наш лежал вверх и вверх по ближайшему неглубоко врезанному распадку, который кончался на отметке около полукилометра, а дальше мы должны были продраться через полосу стланика. Зато выше, всю предвершинную часть водораздела занимала тундра. По высоким тундрам легко ходить. Под ногами плотный, слежавшийся делювий, поросший ягелем, кое-где разбросаны глыбы, и как вечные стражи торчат причудливые останцы пород. Лысые вершины горных тундр везде одинаковы, только останцы на них разные.
Но до вершины далеко, а первый пот уже потихоньку увлажняет майку, и чувствуешь, что скоро придется отправить в рюкзак что-нибудь из самой верхней одежды. Изнутри — сырость, сверху — кропят тебя капли ночного дождя, задержавшегося на листьях ольхи, и даже энцефалитка напитывается влагой. А идем-то всего полчаса.
В распадке я поставил и описал две точки. Задержались на них недолго. Оля работала старательно, четко, быстро, без подсказок (хорошо вышколил ее Геннадий Федорович), и я похвалил ее.
Настоящий пот прошиб меня в стланике. И как ветки ни цеплялись за ноги, за рюкзак, за карабин, как ни устрашал распадок своей вопиющей непроходимостью и кажущейся бесконечностью, но и его миновали благополучно. Худо-бедно, а к полудню мы уже сидели на вершине водораздела, и я делал поспешные записи в дневник.
Я иногда спрашивал себя: «Для чего человека с детства тянет на вершины? Магия восхождения? Испытание себя?» И то и другое, но главное, я бы сказал, это утверждение себя. Когда я стою на водоразделе, не на таком, как сейчас, который похож на широкую спину слона, а на узком скалистом гребешке, и надо мною только небо, а подо мною вся земля в дымке и зеленые горы похожи на замершие волны, в этот момент я и чувствую: я царь природы. Нет, не царь — бог! Захочу я, и придет в движение на века застывшая земля, и сам я окажусь на гребне бегущей волны. Но я не стану этого делать, не потому, что силы нет, могущества нет, просто не хочу. Все, что я вижу и впереди, и справа, и слева, и позади себя, и в вышине, — все это гармония. Так зачем, простите, нарушать ее? А мальчик Володя Маяковский бегал на гору, «на самую высокую», чтобы увидеть оттуда Россию. Кому что.
Мы сидим с Олей на высоте 620 метров над уровнем моря, но видим вокруг не дальше чем на полсотню метров — вот какое могучее облако приютилось в нашей долине. Кругозор сузился до жалких пяти десятков метров. Ни солнца, ни голубого неба. И нет восторгов по поводу восхождения. Кругозор нужен для того, чтобы восторгаться, — вот в чем дело. Нет кругозора — и наплевать, где ты находишься: на Джомолунгме или в Прикаспийской впадине.
— Оля, как ты в геолого-разведочный попала? Меня не спрашивай, я потомственный. У меня отец золото искал.
— Я тоже потомственная. Дед мой был разведчиком, отец — разведчиком, а я буду геологоразведчиком. Я, кстати, Павел Родионович, при помощи такой вот системы построений и выбрала образ жизни.
— Повтори, Оля. Что ты выбрала?
— Образ жизни. Геология — это образ жизни. Не согласны?
— Это надо запомнить. Это запомню, — сказал я, вставая. — Ну, Ольга Макаровна, пора сваливаться.
Я не буду рассказывать о всех злоключениях этого дня — все они не выходили за рамки банальных трудностей. Разве что стоит упомянуть лишь то, как мы на спуске чуть не сверзились с обнажения (я уже говорил, что с той стороны водораздела на карте было нарисовано много обрывов, а тут туман). На счастье, когда до кромки оставалось совсем немного, вдруг на миг открылась долина, и мы бочком, бочком обогнули гиблое место.
Уже внизу поднялся ветер. Он дул с моря и в короткое время прояснил обстановку. Я вздохнул свободнее и осмотрелся. Не в пример нашей молоденькой и неустоявшейся долине, откуда мы пришли, соседка выглядела настоящей матроной. Широко раскинулась она среди гор, давая понять, что таит в себе гораздо большие загадки. И действительно, неожиданные вещи начались едва ли не сразу.
— Посмотрите, Павел Родионович, какое яркое пятно! — показала Оля налево. С верхней бровки высокой террасы действительно была видна внизу полоска растительности, контрастная в сравнении со всей осенней блеклостью. Подошли.
Вдоль подножия террасы вытягивалось озерко метров десять длиной, из которого вытекал крохотный ручеек. Берега озерка и ручья поросли красновато-бурым мхом, кое-где проглядывали островочки яркой зелени, но ничего удивительного я в этом не нашел.
— Типичная разгрузка аллювиальных вод с местным напором, — поучающе сказал я Оле. — Движутся они от террасы, экранируются суглинками поймы — и в результате грифончики. Смотри, сколько их!