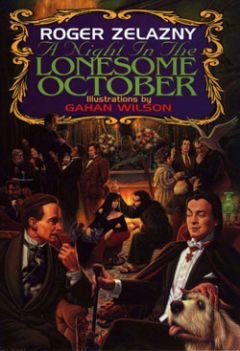Мои сапоги с высокими голенищами — под самый пах, а тут не хватило. Стремнина прижималась к правому берегу, и как только начал я пересекать ее, холодные струн потекли по ногам — впору завизжать, и вскоре сапоги отяжелели, наполнились водой. Я обернулся.
— Оля, я перенесу тебя. Нет нужды вдвоем мокнуть. Подожди — только рюкзаки на берег брошу, чтобы не мешали. Давай-ка твой.
Я перенес рюкзаки. Возвратился. Ноги еще слушались, но уже начали коченеть. Мы отошли на мелкую воду. Я присел. Оля обняла меня сзади, чуть подпрыгнула и закинула ноги мне на бедра. Я подхватил их, произнес задавленным голосом: «Устраивайся поудобнее» — и медленно зашагал по воде.
Ноги мои уже не обжигает холодом, ноги мои не немеют. Немеет спина. Немеют шея и плечи от крепко и, кажется мне, нежно обвивших их рук. Оцепенели руки, потому что и во сне не смогли бы служить опорой для этих легких, крепких длинных ног в резиновых мокроступах. И ее дыхание над ухом!
Не могло мое напряжение остаться незамеченным. На самом глубоком месте Оля осторожно отстранилась, а мне показалось, что она резко отпрянула назад. Я чуть было не потерял равновесие. Но берег был рядом и, развернувшись спиной к нему, я благополучно поставил на уступчик свою драгоценную ношу.
Я ликовал! Стена, непрошибаемая стена, которая отделяла меня от Оли, вдруг стала тонкой, прозрачной, гибкой. Неважно, что мы по разные стороны. Это совсем неважно. Да это уже, родные мои, даже не стена. Так, подобие. Если она протянет свою руку, а я свою, то потечет ко мне через эту стену ее тепло. Так какая же это стена?
— Смотри, Оля, танец маленького лебедя!
Я опустил голенища, дурачась, расставил руки и задрал ногу — вода полилась из сапога. Таким же образом я опорожнил второй и, схватив рюкзаки, побежал к выбранному месту. Оля быстро шла за мной и приговаривала, смеясь;
— То ли лебедь, то ли ласточка, то ли в цирке слон! Кто это? То ли лебедь, то ли ласточка, то ли в цирке слон!
Вот что человеку нужно для полного счастья! Вот как мало ему надо. Мало ли? Это мало разве — почувствовать, как исчезает преграда между двумя людьми, да еще если один человек неравнодушен к другому?
— Оленька, — смелею я, — вот что мы сделаем, — и сбрасываю рюкзаки, — дождь ведь будет. Чувствуешь? Я должен построить дворец. Я буду джином. А ты разводи костер, чтобы было светло, тепло и весело на душе. «Эх, радостно на душе! Эх, весело на душе!»
И я бросился к кедрачу и принялся махать маленьким, легким топориком, с которым уже лет десять не расстаюсь. И ложились рядом со мной хрупкие хвойные лапы. Пошло дело! А вот они — колья, а вот — продольные жерди, а вот — поперечины. Вот как!
Остов шалаша вышел кособоким. А, не беда! Лапками, лапками выровняем! Чем не дворец-хижина?
Костер уже полыхал вовсю. Дождик накрапывал помалу, но вокруг костра от жара начала образовываться сухая зона.
— Павел Родионович, рогульки нужны.
— Бу сделано, — скопировал я Райкина и тут же вогнал в землю заранее приготовленные рогатины. И поперечину сверху положил. — Готово, синьорина… С вашего позволения, — добавил я и отхлебнул из носика чайника несколько глотков.
Ледяная вода прокатилась по пищеводу и стылой массой разлилась в желудке. Короткий озноб тряхнул тело, и заныли мышцы ног.
Оля подвесила чайник над костром, встала с наветренной стороны боком к огню. Мне вдруг ни с того ни с сего пришло в голову;
— Один раз в Магадане захожу в столовую… Слышишь, Оля? Сидят две особы в шапках собольих, и на плечах соболя соответственно. А в тарелках перед ними свиной гуляш. Одна ковыряет вилкой, кусочки сала в сторону отодвигает и произносит многозначительно: «А вот мусульмане свинину не едят». А вторая, мощная такая мадам: «И евреи не едят». — «Так евреи и есть мусульмане», — говорит первая. «Что ты, что ты! Евреи христиане». — «Ах, ну да, ведь Иисус Христос был еврей!»
Оля улыбнулась и сказала;
— А у нас в группе один учился. В Духовную семинарию в Ленинграде поступал, по конкурсу не прошел и подался в геолого-разведочный. Он представляется так: «Андрей Петин — протестант-католик по различным иудейским верам».
— Заблудились крещеные, сказала бы наша хозяйка-баптистка, у которой мы жили на улице Декабристов. — Мне стало смешно. — А я в вероисповеданиях не рублю. Не помню даже, например, какая вера у китайцев. Ты знаешь?
— Буддийская в основном.
— Ну вот! А я думал. Будда только у индусов.
— Не только, — сказала Оля и, не давая мне слова вставить, заторопилась: — У вас, Павел Родионович, ноги мокрые. Вы, наверное, забыли об этом?
— Уже вспомнил, Оля, — ответил я, почувствовав снова крупную дрожь.
«Не к добру это, — подумал я. — Действительно, чего, дурак, стою пропотевший и промокший, да еще на ветерке?»
— Сейчас, Оля, я мигом высушусь. Все с себя долой! К костру — и мигом. Мигом!
Но стоило мне стянуть брюки, как опять начало колотить.
— Павел Родионович, ну, разве можно так? Быстренько становитесь вот здесь. Здесь хорошо жаром пышет.
Я подошел к костру, и благолепное тепло обдало ноги. Но странное дело, чем больше я согревался, тем больше меня знобило.
«Этого только не хватало, — злясь на себя, подумал я. — Завтра-то еще работы невпроворот. И до базы топать и топать».
— Вам нужно сейчас же просушить все как следует. Возьмите мои брюки. Берите, я говорю! Ну и что же, что коротки? Надевайте, не стесняйтесь. У меня еще тренировочные есть.
Она стянула с себя сухие шерстяные брюки, и я, бормоча слова благодарности, с превеликим трудом залез в них. И стало гораздо теплее.
Мои штаны парили, как гейзеры, и портянки поддавали пару, и два сапога походили на градирни ТЭЦ. А чайник тем временем закипел. Оля заварила чай, и я едва дождался, когда в руке у меня окажется кружка, полная горячего бальзама. Потом я выпил одну, другую, вспотел, потом остыл, выпил третью.
Оля тревожно наблюдала за мной.
И тут меня начало забирать.
— Оля, так как же насчет буддизма? — вспомнил я прерванный разговор, потому что почувствовал, что голова кружится и нужно за что-то зацепиться, хотя бы словом.
— А что вас интересует, Павел Родионович? Постойте! Сапог ваш падает!
— Что меня интересует? Что же меня интересует?..
Как же мне было нехорошо! Корежило, будто в позвоночник мне ввинчивали громадный штопор. А ноги едва поддерживают. И кожа болезненная.
— Идемте, Павел Родионович. Идемте. Вам обязательно нужно заснуть.
Оля подошла ко мне и под руку повела к шалашу. Я устроился на ватнике. Сверху Оля укрыла меня своим ватником. Укутала во что-то ноги. И я затих, скорчившись на левом боку. Лихорадка постепенно отпускала, прошиб пот.
Оля присела рядом.
— Вам лучше? Вам сейчас будет лучше. А озноб — он пройдет. Он сейчас должен пройти. Потом вам даже жарко станет. Жаль, конечно, что мешка нет. Завтра бы вы как огурчик встали и без лекарств. Это у вас просто переохлаждение. В поле же нет вирусов. Можно землю здесь есть, верно? Если нет людей, то и вирусов нет. В безлюдье какие вирусы? И вы просто продрогли. И с вами ничего не случится. Ничего не случится. Завтра мы встанем и потихонечку да полегонечку дойдем. Дотопаем, как вы говорите. Я маршрут буду вести. А вы мне где надо будете подсказывать. И все будет хорошо, Павел Родионович. Вы лежите спокойно, а я пойду, сапоги ваши досушу. А потом приду. Спите.
Оля подоткнула мне под бок ватник и ушла к костру, а я уснул. И сон мой был крепким и нетревожным. Очнулся я, когда к моей спине прижалось что-то теплое и исцеляющее, но быстро я снова забылся и проснулся много позднее от холода и от странных звуков. Я никогда не видел саранчу, но я знаю сухой шелест кузнечиков. И мне показалось, когда я проснулся, что на наш бедный шалашик садится целая туча саранчи. И все они, те, что сели, и те, что прилетают, издают этот странный звук. То падал снег, шурша по прихваченному морозом плащу.
Мы лежали, прижавшись друг к другу спинами. И нам хватало места на одном ватнике. И еще более чем странно: нам хватало и ватника, которым мы укрывались.
12
Я бы мог, наверное, достаточно подробно рассказать, как мы завершали последний маршрут этого сезона. Но боюсь, как бы мое красноречие не погрязло в неприятных мелочах, вроде описания дрожащих рук и ног, оступающейся походки, головной боли, такой ноющей, сосредоточенной, словно не сама голова, а «желудок» в голове болит.
Худо-бедно, а к темноте я уже лежал в своем спальном мешке, пил кружку за кружкой чай с давленой брусникой (убей бог, не помню, где и когда мы ее собирали) и потел. Я ощущал, как хворь, некстати привязавшаяся ко мне, вместе с потом выходит наружу, будто распахиваются двери у моих клеточек и вышибалы вышвыривают на улицу паршивую хворобу.
Если вчера, проснувшись ночью в дырчатом шалаше и услыша снег, я, честно говоря, струхнул, то сегодня — нет. Шабаш! Палатка — та же крепость, за стенами которой можно перенести даже осаду пурги. Пусть стены эти тоньше ученической тетрадки, но все же это стены! Если с умом, то они превратятся в неприступную для снежных плетей преграду. Как же не быть спокойным?! А возвращение? По присыпанной снегом тундре? Все это — зола.