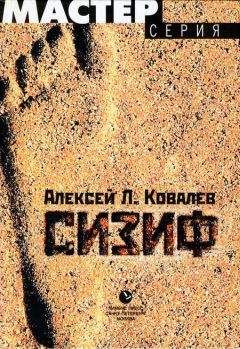— Вот теперь ты заговорил толково. Мечтать мы не станем. Мы лучше подумаем, как этого добиться.
— Если ты полагаешь, что можно этого достичь молитвами или деяниями, то, наверно, вы с Язоном совершили достаточно, сравнившись с другими героями. Наверно, вам и не нужно особенно стараться.
— Мать ли с отцом снабдили тебя этой чертой, или ее вскормила какая-то обида, но ты умеешь ожесточить тех, кто питает к тебе расположение. Я знаю, что злого умысла в этом нет, и не сержусь на тебя. Но давай прервем теперь нашу беседу. А отпуская тебя, я скажу напоследок вот что: о том, что спрашивала я, и о чем ты не знаешь, почему бы тебе не поговорить с Меропой? Вдруг она откроет тебе глаза?
«Я знаю сам, о чем говорить со своей женой и о чем с ней говорить не следует», — чуть было не ответил Сизиф, но удержался. Ему стало стыдно обнаруживать, что Медея читала его мысли.
Внимание к нему царицы не ослабевало, и, хотя подобные встречи происходили редко, она каждый раз начинала разговор так, будто не прошло несколько месяцев, а то и лет. Казалось, ей необходимо было доверенное лицо в некоторых, не совсем приличествовавших ее положению делах, и, сколько ни сопротивлялся Сизиф, не испытывая к этой женщине особой приязни, чувствуя себя неловко в этой роли, его самого задевали смелые, порой нелепые мысли Медеи, в самом деле чем-то напоминавшие причуды Салмонея.
Кроме того, настойчивость царицы давала ему возможность обстоятельно пересказывать эти беседы жене и таким образом исподволь, как бы не по своему желанию подводить ее к тому, о чем он решился спросить лишь однажды. А самого его подталкивало к этому теперь уже не одно только восторженное любопытство. Происхождение Меропы было связано с трудным вопросом о Большом и Малом времени, существование которых представлялось Сизифу несомненным.
Малым он называл обычное время земной жизни, о котором знали все, знали всей своей плотью, не задумываясь об этом. Он и сам не стал бы выделять его в своей голове, придумывая ему название, если бы не оказался однажды из него изъятым. Помимо этого ощутимого времени, да еще совсем уж непостижимого небесного безвременья богов, к которому не было доступа вообще никому, существовала только вечность, недоступная живущим. Она наступала после смерти, когда Малое время истекало и прекращалось. Между ними не было никакой связи, как не было возврата из Аида единожды туда спустившимся.
Но где же находились он с Меропой, рабы, фокидские животные и царь Эфиры, пока мимо них то в ту, то в другую сторону метались декады? Где терпел свою пытку его несговорчивый прапрадед Прометей, пока Сизиф изнывал от влюбленности в родной Эолии? Гора, к которой тот был прикован по повелению Зевса, была не в Аиде. В Аид спустился с нее Хирон, обменявший свое бессмертие на свободу для Прометея и обретя наконец блаженную вечность. Бессмертие, возможно, было еще одним именем для Большого времени, поскольку оно попирало конечные права времени Малого, не переступая при этом порога смертных врат — единственного входа в вечность. Но оно безусловно должно было существовать, достаточно безмерное, чтобы не считаться с мелкими земными сроками, и все же каким-то образом сопряженное, сопоставимое с делами и судьбами смертных. С его помощью, например, боги могли бы дарить людям долголетие, да и каждый раз, когда им хотелось принять участие в людских событиях, боги могли пользоваться этим Большим временем, в котором обретали бы видимый облик, чтобы дотянуться до человека, не закрывая себе обратного пути в небесную тишь.
Только благодаря Большому времени у Язона и других героев появлялась возможность перенять мудрость и полезные навыки Хирона, не особенно интересуясь, сколько же лет благородному кентавру, сыну самого Кроноса. Стало быть, у человека, которому не дано было вступить в вечность, пока он не расстанется с жизнью, оставался шанс хоть ненадолго, но оставить свое Малое земное время и побывать в Большом.
Пришлось там оказаться и самому Сизифу. Это было чрезвычайно поспешное посещение, лишенное, на первый взгляд, какого-либо смысла и не оставившее воспоминаний. Но Малое время он покинул, а вернулся в него не совсем в той точке, где из него выпал.
Да было ведь и еще одно свидетельство о Большом времени! О нем напомнил сейчас влажный ветер с залива, перебиравший его волосы. Ветер был отнюдь не чуждой ему стихией, олицетворяя самые глубокие воспоминания об отце, который брал каждого из мальчиков на прогулку, когда наступал черед, и объяснял названия цветов и трав, назначение гор, долин и вод. В эти часы он становился другим Эолом — не строгим, озабоченным фессалийским царем, а вольным, легким на подъем странником, чьим домом не могли быть те или иные стены. Много раз наблюдал Сизиф дивную игру теней на лице Эола, становившемся подвижным и одухотворенным. Тот замирал перед встретившимся на пути обломком скалы или стеной обвалившегося храма, как бы предлагая им угадать, с какой стороны он проскользнет мимо в следующий миг. Мальчик мог бы поклясться, что слышал, как скрипит и крошится камень в тщетных попытках преграды вступить в поединок, сдвинуться, пресечь готовый совершиться полет. Эти нешуточные свидетельства говорили о том, что природа признавала за Эолом равные себе силы, но его самого они, казалось, огорчали, как напоминание о взятом на себя некогда обете оставаться всего лишь земным царем. Он долго крепился, прежде чем спросить отца, в каком же отношении он находится к тому, другому Эолу, владыке воздушных потоков. Ни в каком. «Это я и есть», — было ответом.
Не являл Эол сыну чудес, не заставлял реку выйти из берегов, не разгонял туч и сам не растворялся в ветерке, но мальчик был убежден, что все это в его власти. Братья никогда ни о чем подобном не упоминали, и он считал это открытие принадлежащим ему одному. Когда Сизиф покидал Эолию, самым мучительным было чувство, что он не оправдывает каких-то надежд, взлелеянных отцом в тех прогулках, а вовсе не его житейских расчетов на прочность эолийской династии. Но в трудном разговоре с Эолом не скользнуло и тени этих воспоминаний. Они расставались в Малом времени, где юношу влекли к себе иные желания и мечты, сами по себе достаточно волшебные.
Наконец, будь его красавица и умница жена, с ее изящным, но сильным телом, с простодушными речами и чувствами, способными выходить из берегов, с едва заметно косящими, цвета глубокой синевы глазами — не от океаниды ли Плейоны унаследованными? — будь это воплощение земного счастья еще и дочерью Атланта, одной из звездных сестер, он мог бы с уверенностью сказать, что однажды пробыл в Большом времени достаточно долго, чтобы лицезреть божественного великана Ориона, вступить с ним в беседу и выбрать себе там суженую. Но это означало бы, что вместе с Меропой он завладел доступом к этому Большому времени, знание о котором добыл сам, упорным душевным трудом. Не на это ли намекала догадливая колхидская царевна?
До сих пор все его попытки проникнуть в тайну своей супруги или хотя бы убедиться, что такая тайна существует, разбивались о кристальную наивность Меропы, не оставлявшую никакого повода предполагать, что она лукавит. Но образ двух, иногда пересекающихся, времен преследовал его с таким постоянством, что в конце концов Сизифу померещилась еще одна возможность их совместить, которая непосредственно касалась этого неуютного места.
Сопоставляя одно с другим и третьим — его первое потрясение на подходе к Истму и следующее — уже в Коринфе; беспокойное нетерпение кораблей, качающихся в Сароническом заливе у этой неодолимой преграды, и ярость их зеркального отражения в Коринфском заливе, по ту сторону перешейка; всю неистовую досаду Эллады, неспособной протиснуться в узкие врата Истма по дороге в Пелопонес, и всю разбухшую мощь полуострова, едва удерживаемую этой полоской земли, — он стал догадываться, что такое средоточие противонаправленных и взаимоуничтожающих стремлений должно было обладать невероятными свойствами. Скорее всего именно здесь мог завязаться стягивающий воедино все нити жизни Пуп земли, а не на подворье дельфийского храма, куда его поместила приблизительная молва, промахнувшись на несколько сот стадий.
Где-то здесь на перешейке как раз могло находиться невидимое зияние, вокруг которого закручивались вихри обоих времен. Сизиф не знал, чего ожидать человеку, ступившему в этот центр вселенной, где, по-видимому, переставали действовать обычные законы, но полагал, что, раз он заглянет сюда по своей воле, направление судьбы может ему открыться без того, чтобы он вновь угодил прямо к ее цели. Этот прогал он и нащупывал, шатаясь по Истму, преодолевая страх оказаться по возвращении домой неизвестно где, не увидеть семью или застать жену старухой, а сыновей чужими взрослыми мужчинами. Прогулки эти исподволь превращали его в рассудительного не по летам, умудренного печалью мужа. Недоверие к сущему, желание заглядывать за его пределы — кто же внушил ему все это, как не оракул, полученный в Малом времени от дельфийской пифии, вещавшей из времени Большого.