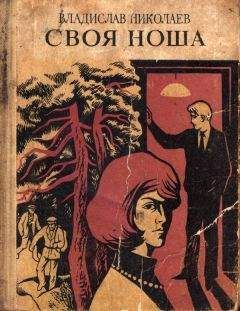Тропинка к дому вела через станок для ковки лошадей. Передние столбы, изгрызенные испуганными животными, походили на фигурные балясины. Перекладины на столбах, к которым привязывают лошадиные ноги, сами столбы, деревянный пол засыпаны снегом. Давно уж не ковали тут уросливых лошадей, а дерево все еще пахнет конским потом.
Мертва кузня. Некому раздуть в ней огонь, некому вздымать молот, ворочать клещами, призывно звенеть железом, некому и лошадей подковать, сеялку, грабли отремонтировать — ни одного мужика в деревне не осталось.
Дверь из избы выходит прямо в чисто поле — ни сеней, ни крылечка, сожгли ли, так ли было; однако Маша идет не к ней, не к двери, а почему-то сворачивает по глубокому снегу к светящемуся окошку. Поднеся к глазам руку в шерстяной варежке и притаив дыхание, с опасливым любопытством заглядывает внутрь. Малиново посвечивая помятыми боками, топится у порога железная печка. На голом столе в жестяной плошке дымно горит тряпичный фитилек. Голые полы, голые стены. Посреди избы, скрестив на груди руки, недвижно стоит худая женщина в подвязанном по-старушечьи черном платке, щеки провалились, даже тени лежат во впадинах, глаза тупо уставились в одну точку. Спит ли с открытыми глазами, молится ли — не поймешь. Одеревенела.
Маша тихонько постучала. Женщина встрепенулась и посмотрела в окно. Ничего там не увидела, подумала, вероятно, на ветер — принесся с поля и стукнул наличником, наполовину оторванным от стены.
Маша постучала в другой раз, уже погромче. Женщина пошла к двери. Скрипнула оледеневшая петля. На снег пала полоска света. Дверь приоткрылась чуть-чуть — только голову просунуть, дальше ее не пускал сугроб. Маша обмела рукавицей валенки и протиснулась в избу. Назвалась:
— Борина учительница я. Мария Васильевна.
Хозяйка на это ничего не сказала. Несмотря на раскаленную железную печку, в избе было холодно. Под потолком тонкими прядями качался дым от плошки-коптилки. В углах таился непроглядный мрак. Оглядевшись, Маша увидела две нечесаные русые головки, свесившиеся с холодной печи. Мальчик и девочка с прозрачными чумазыми личиками во все глаза рассматривали гостью. А Бори нигде не было. Машу так и подмывало тотчас спросить: а где же старший, где же Боря? Но она почему-то не спрашивала, будто боялась своего вопроса.
Женщина молча вытащила из-под стола табуретку и поставила против гудящей печки, от которой с треском отскакивала окалина. Но Маша осталась стоять на ногах. Собравшись с духом, она спросила:
— Вашего Бори с четверга не было в школе, заболел или в гости к кому-нибудь отправили — не видно что-то в избе?
Хозяйка странно взглянула на Машу и, будто что взорвалось в ней, быстро-быстро заговорила — заторопилась, и голос у ней был бодрый, даже веселый:
— А вы и не знали? Ведь умер наш Боренька-то. Умер. В субботу еще. А сегодня мы его как раз и похоронили. Земля тяжелая, неглубоко закопали. Летом надо будет перекапывать.
Маша содрогнулась вся. Содрогнулась от жуткой вести, а еще больше от бодрого, веселого голоса несчастной матери. Ноги подкосились. Упала на табуретку и закрыла руками уши, чтобы не слышать бойкого бормотанья полоумной. Потом Машу будто кто за плечи взял и затряс что есть силы — неудержно зарыдала. А перед глазами стоял он, живой Боря, бледненький, русоволосый, как эти двое, свесившиеся с печки, с серьезным выражением ясных серых глаз. Ах, Боря, Боря! Как же так? И уже кажется Маше: не было у нее милее и лучше ученика, чем Боря. Всех своих ребят видела Маша в будущем замечательными людьми, даже не просто замечательными, а прославленными и великими: одного — героем летчиком, другого — писателем, третьего — изобретателем. Боря должен был стать прославленнее всех. Он замечательно рисовал. Деревья, собаки, лошади, коровы на его рисунках были как живые — качались на ветру, лаяли, скакали во всю прыть, мычали, задрав морды. Маша очень хотела, чтобы Боря непременно стал художником, а сам он, увы, мечтал о другом. Он спал и видел себя на тракторе в железном кресле: машина, послушная его руке, идет по неоглядному полю, а за ней ровными рядами ложится черная лоснящаяся земля, из которой тут же, прямо на глазах поднимаются, вырастают колосья, и на них румяными булками висит хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб!
Однажды на уроке рисования, раньше всех выполнив задание, Боря смастерил из двух вирков и резинки игрушечный трактор, и Маша, недовольная тем, что мальчик никак не отвяжется от своей скромной мечты, когда его ждет в жизни совершенно иное, более высокое призвание, отобрала до конца урока у него игрушку. Теперь, вспомнив об этом, она разрыдалась еще сильнее. Пусть бы он был трактористом, пахал землю, выращивал булками хлеб, только бы жил, жил, жил!
Машу перестало трясти, и она снова услышала радостно оживленный голос:
— Хорошо нашему Бореньке. Счастливый он у нас. На серебряной дудочке теперь играет. И голодать больше не будет. Стыд сказать, грех утаить: радехонька была бы, кабы и этих господь прибрал, — кивнула на печку, с которой свешивались две светлые печальные головки. — Отмучились бы.
Нет, выше всяких сил слушать этот полоумный бред. Маша прянула на ноги, опрометью выскочила за дверь и, не разбирая дороги, побежала прочь. Очнулась уже далеко от кузни, в березовой роще. Пальто нараспашку, голова непокрытая, шаль за спиною бьется, лицо мокрое, а в руках узелок с подарком для Бори. «Как же так, не оставила его? Маленькие бы на печи съели!» И страшно было повернуть обратно, страшно снова войти в голую закопченную избу, слушать сумасшедший бред несчастной матери, но все-таки заставила себя, повернула, добрела до одинокой избы в поле, по самые окна заваленной снегом, но внутрь не пошла, а привязала узелок к дверной ручке — выходить будут, обнаружат, и, всхлипывая изредка, тихо поплелась домой.
Ах, дети — чуткие сердца, сразу утром учуяли: что-то неладно с учительницей. Не колготали, не шумели, разболокаясь. До света за парты расселись.
Как им сказать? В горле застрял комок — не проглотить. Оторвалась от реснички слеза и на всю избу щелкнула по бумаге.
В прихожей громко стукнула дверь, и в ту же секунду в класс ворвался Алеша Попов, ворвался в пальто, в шапке, с комками снега на новых лапоточках, с шальными глазами.
— Ребята, ребята! — кричал он, выбегая на середину класса.
У Маши вовсе сердце оборвалось: что еще случилось?
— Ребята! — кричал ликующе Алеша. — Что я сегодня во сне видел! Ух! Будто иду по нашему полю и впереди на дороге лежит булка хлеба. Да большая-пребольшая, больше нашей школы! Я подкрался к ней на цыпочках и цап-царап в карман!
Маша неожиданно для себя рассмеялась. Из глаз одновременно потоком хлынули слезы.
— Алеша, подойди сюда, — позвала она, а когда испуганный мальчик приблизился, обняла его за плечи и, все еще смеясь сквозь слезы, проговорила:
— Ах, Алеша, милый мой мальчик! Да как же ты такую большую булку, с нашу школу, смог положить в карман?
— Не знаю, — заморгал глазенками, захлюпал носом Алеша.
— Вот тебе и сто рублей на мелкие расходы, — со смешком сказал кто-то в классе.
— Дети мои милые, я должна сообщить вам горькую весть. Осиротели мы с вами. Умер наш добрый дружок, наш братик Боря Стручков…
Дети словно по команде высыпали из-за столов, подбежали к учительнице, и она, раскинув руки, обняла их всех — впрямь осиротевшая одна семья.
«Нет, надо что-то немедленно делать, иначе все перемрут один за другим с голода. Но что, что?»
Маша раздвинула притихших в горе учеников, прошла в прихожую, сняла с вешалки пальто, шаль, оделась на скорую руку и выбежала на улицу.
К кому податься в районе, у кого просить хлеба? — конечно же у того, кто послал ее в забытую начальством и богом деревушку обучать голодных детей, — у комсомольского секретаря Жени.
Ах, как она, комсомольский секретарь, провожала Машу два месяца назад: из-за стола вышла, по-родственному за плечи обняла, напутствуя задушевным словом: «Трудно будет — обращайся прямо ко мне. Не робей и не стесняйся. Поможем. Ты теперь наша».
И вот Маше трудно, ох как трудно, и пришла она за обещанной помощью, но отчего комсомольский секретарь даже головы не поднимает от казенных бумаг, вороненую косую челку не уберет со лба? Не признала, что ли? Недовольна чем? Или не понравилось что-нибудь в Маше? Не понравился горячий румянец на щеках, которому все нипочем — ни голод, ни холод, ни дальняя дорога.
— Что тебе, девушка? — мотнув головой, Женя откинула с глаз власяную завесу.
— Вы меня, наверно, забыли? — переминаясь у порога, робко выдавила из себя Маша.
— Почему же забыла? Я никогда ничего не забываю. Ты — Маша Скворцова, учительница начальной школы в деревне Кокоры. Не правда ли?
— Правда, правда, — радостно подтвердила Маша. — А в Кокоры вы меня направили. И когда провожали, говорили, чтоб за помощью я лично к вам обращалась.