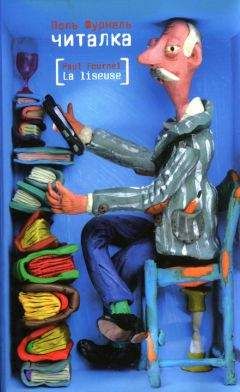Четвертый сет, который должен был привести меня к победе, был явно лишним; о таких сетах мышцы вспоминают даже на следующий день, во время полуфинала: из-за таких сетов выходишь на корт с боязнью проиграть, которая является единственной боязнью, достойной чемпиона. Панк на трибуне вскрикнул, когда я глупо пропустил свечку. Я сжал кулаки, стиснул зубы, протер обмотку ракетки опилками, грозно посмотрел на мальчишку, который замешкался, кидая мне два новых мяча.
В первом гейме четвертого сета, отпустив его 0–40, я, наконец, должен был загасить самую не берущуюся подачу в своей жизни, а затем переиграть этого засранца. Как они меня все достали — тренеры, журналисты, игроки — со своей боязнью выигрывать. Для настоящего чемпиона боязнь выигрывать — это слишком примитивно. Единственное, что может расстроить игру супер-гранда, так это боязнь подумать о боязни выигрывать, да и то...
Я видел, как все они уезжали: малыш Робер укатил в Тулузу ради футбола и вернулся с неработающими коленями — что-то там у него не срослось. Малышка Шанталь, красотка, так хотела заниматься лыжами, а все кончилось тем, что она забралась на Фон-Роме и совсем там спятила. Ее нашли на самой вершине, она сидела одна и звала спустившихся раньше подружек, а когда ее снова подвели к старту, она стала звать маму, потому что боялась спуститься. Надо иметь чугунную голову, чтобы в пятнадцать лет бросить родную деревню и жить как в цирке, переезжая из одной гостиницы в другую; они сделали из нее сумасшедшую. Я уже не говорю о теннисистах, которые проводят больше времени в самолетах, чем на кортах...
Это неправда, что можно выбирать свой вид спорта; твой спорт — это всегда немножко спорт отца, старшего брата или родной деревни.
Я — давила, потому что я самый высокий и самый толстый в семье, самый высокий и самый толстый в кантоне.
Регби — мой спорт и моя родина.
Команда — это как целая толпа, что вываливает с воскресной мессы: есть неповоротливые, ушлые, резвые, пронырливые, юркие, богатые, несчастные, вечно недовольные, просто никакие... И вся эта компания валит вперед, но сначала — мы, чтобы повести мяч за собой. Сначала — мы, мужчины. А мяч переносится под прикрытием — под крылышком. Если хорошенько подумать, то он для меня — не самое важное. Самое важное для меня — это парни напротив, из другой деревни. Я мотор и работаю мотором для того, чтобы те, которые газуют, могли отличиться. Я рад, когда нам удается оттеснить их нападающих: настоящее веселье — это когда нам удается дать им немного полетать. Мы блокируем, мы тесним, мы расчищаем, мы успокаиваем, мы — это те, которых в деревне с места не сдвинуть. А те, что сзади, они выписывают кренделя, они придумывают, они намечают цель. Их работа заслуживает уважения, так вот, мы и добиваемся этого уважения, всякий раз, когда это нужно. Если я и начинаю раздавать оплеухи направо и налево, так это не ради своего удовольствия: когда нападающий выносит мяч к гардеробу или после пинка полузащитника, он оказывается на высоте телевизионной мачты, вы не имеете права допустить, чтобы какой-нибудь козел из соседней деревни выцарапал его у вас. Лучше выдать ему еще до того, как выдаст он.
На поле мне никогда не бывает страшно. Я заматываю голову лейкопластырем: надоело, что каждый раз мне рвут уши, но, даже когда мне здорово достается, это все равно не очень опасно: я же знаю, что мы здесь все свои. А еще я знаю, что я никакой не супермен: я — битюг, такой у меня склад характера, мне не многого стоит сунуть руки туда, куда другие поостерегутся сунуть ноги. Но и у меня бывают черные дни, когда приходится слоняться по полю и болтаться возле лицевой. Такой уж у меня характер. Я немного ленивый, но по-настоящему на себя за это не сержусь: если бы мы играли слишком хорошо, если бы мы все время выигрывали, деревня оказалась бы в опасности, потому что, чтобы играть еще лучше, рано или поздно пришлось бы позвать чужих.
Наш спринтер трясет ногами с внушительными мышцами, откидывая ступню назад, в пустоту, ставит шиповку на стартовую колодку, аккуратно кладет пальцы на край белой линии, склоняет голову и переводит все свои мысли в поясницу. Если все произойдет так, как это предполагается вот уже девять лет, что он бегает, то менее чем за десять секунд он пробежит сто метров со скоростью 37 километров в час.
Наш спринтер — это почти самодостаточная грубая машина, которая должна совмещать в себе болезненно взрывную страсть и самое большое терпение. Стометровка — бег бесконечный. Бег, во время которого невозможно оставаться от старта до финиша неизменным: ты вылетаешь, как стрела, но по дороге выдыхаешься и изводишься от страха, что тебя самого перегонят, или же ты постепенно наращиваешь скорость, но зажимаешься и изводишься от страха, что не сумеешь перегнать сам.
Бегунов-любителей на сто метров не бывает. В парках полно воскресных марафонцев и вечерних кроссменов; спринтеров на досуге не существует.
Это правда, что великие спринтеры — иллюзионисты, они заставляют поверить, что их искусство — дело десяти секунд, а десяти секунд для увлекательного зрелища явно недостаточно. На самом же деле, каждая стометровка есть лишь одна деталь в целой серии постепенно усложняющихся, тщательно разработанных и превосходно организованных забегов, для того, чтобы тысячи предыдущих стометровок в какой-то момент сложились все вместе в той самой стометровке на Олимпийских играх или на чемпионате мира. И тогда нужно попытаться достичь совершенства; совершенство означает стартовать быстро, бежать быстро и правильно и с первой секунды на старте уже предвидеть финиш, который четко просматривается в конце прямой линии, держаться своей дорожки и победить соперника одной лишь силой своего духа.
Самое трудное — когда соперник опережает на пять миллиметров — заключается в том, чтобы не затвердеть, не пытаться превратиться в снаряд, в пулю: это было бы слишком просто. Корпус должен оставаться гибким, а руки расслабленными для того, чтобы ноги, стараясь не прикасаться к земле, ее просто упразднили.
Для бегуна на длинные дистанции сигнал дежурного по старту — самый благостный момент: именно в эту минуту он может избавиться от своего страха, наконец-то бежать, наконец-то оценить своих конкурентов, наконец-то реализовать свою стратегию. Для спринтера это момент, который следует стереть начисто.
Наш спринтер — бледно-зеленого цвета. Его голова настолько свободна от мыслей, что сигнальный выстрел пистолета продолжает греметь внутри до самых аплодисментов. Однако самое главное он уже сделал: для спринтера изнурительнее всего эти пятьдесят метров до забега, которые надо пробежать мысленно как можно быстрее и разогнаться так, чтобы прийти к моменту старта с максимальной скоростью.
Том Скотти был очень умным и очень уравновешенным юношей, который очень рано решил применить свой ум и свою уравновешенность в спорте. Одаренный во всем, он мог оказаться тем более опасным соперником, потому что умел применять свою одаренность выборочно.
Он хотел быстро добиться успеха и до старости прожить совершенно здоровым, как физически, так и морально.
Насчет морального здоровья, он знал, что спорт приводит к одним лишь поражениям: чем значительнее будет его спортивный успех, тем очевиднее будет его поражение. Спортсмены — смертны вдвойне. Оставаясь действующим чемпионом, он бы со страхом ожидал, когда его победят другие; став непобедимым чемпионом, он бы со страхом ожидал, когда наступит роковой день, и он уйдет из большого спорта сам.
Итак, еще перед тем, как стать профессиональным спортсменом, он уже наметил день, когда бросит спорт, и решил строить карьеру исходя из своей будущей переориентации. Его жизненной программой был рост не спортивный, а карьерный, причем в различных сферах. Он мог бы стать спринтером или пловцом, но рынок шиповок и купальников был ограничен и хорошо обеспечен. Он мог бы стать теннисистом или лыжником, но Лакост и Килли перекрывали все поле деятельности. Он выбрал мотоцикл и стал всем известным «чудом»: он ставил самые немыслимые рекорды, был единственным, кто с легкостью переходил от дорожки к кроссу, от скорости к выносливости, от гонок по пересеченной местности к мотопробегам. «Чокнутый», как его прозвали фанаты. Он обносил, как стоячего, Рэнди Мамола и на подъемах взлетал выше Малербы и Вимона. Он коллекционировал титулы и звания и, если этого требовали коммерческие обстоятельства, не ломаясь, соглашался участвовать в африканских гонках, где, по его знаменитому выражению, «слаломился между банту» (чего он терпеть не мог).
Он ездил на лучших мотоциклах и относился к делу серьезно. Красивое лицо, обворожительная улыбка, щедрое сердце, непреклонный характер, железные мышцы: он тренировался как сумасшедший, бегал, прыгал и везде побеждал благодаря свой силе и своей ловкости.