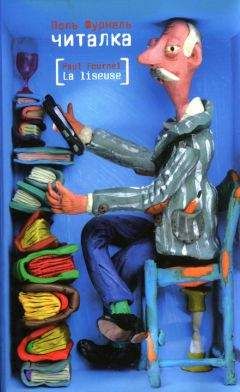Он встал и направился в гостиницу. Сейчас ему объявят, что он тридцатый или сороковой, он попросит хозяина послать жене цветы. В следующем письме она его слегка пожурит за ненужные расходы (с ней ему нечего бояться за свою старость, за старость, которая для него наступит в тридцать три года).
В высоко закатанных рейтузах, он, как балерина, запрыгал на своих туклипсах прямо посреди дороги. По пути он ухватил свой красивый велосипед за рога.
У меня глупый вид спорта, и занимаюсь я им по глупости, с семи лет. Потому что все мои приятели (и, увы, все мои приятельницы) называли меня толстяком, потому что я был на голову выше самого высокого в классе, потому что я никогда не мог втиснуться в стандартное пространство школьной парты, потому что у меня руки как ноги, ноги как тумбы, вместо ладоней лапищи, а лицо словно вырублено топором.
Мне двадцать шесть лет, значит, уже девятнадцать лет, как я занимаюсь метанием молота, и пять лет, как признан самым сильным молотом в Европе. Я никогда не стану самым сильным молотом в мире из-за одного американца. Ради этого чугунного шара в 7,26 кг на конце троса в 1,19 м я и работаю, кручусь за своей решеткой безо всяких иллюзий: можно ли быть белкой, если в тебе 126 кг? Я ношу наколенники, налокотники, налодыжники, бандаж и снашиваю десяток подошв Adidas (за это мне платят 15000 франков в месяц). Я соответствую тому, чего от меня ждут, и буквально трещу по швам. Ради этого шара я пичкаю себя анаболиками и амфетаминами, и мне стыдно. Я рву себе связки. Меня унижают, заставляя мочиться перед карликами в белых халатах, которые меня дисквалифицируют и которых через несколько дней, в свою очередь, дисквалифицируют, чтобы снова выпустить меня на арену, с которой я, по большому счету, и не уходил... На протяжении своей спортивной карьеры я наблюдал, как сетка становится все выше, передние ворота — все уже, изоляция — все строже, а все из-за досадного пристрастия некоторых из нас запускать свой снаряд в зрителей.
Я вращаюсь все быстрее и быстрее: от этого у меня кружится голова, и я оказываюсь еще больше отрезанным от мира. Рукоятка молота, первый поворот — раскачать, второй, третий, четвертый — придать ускорение и пятый — метнуть. Мне все опротивело. Я уже давно приучился опускать глаза в тот самый момент, когда выдаю финальное «ха», как будто свидетельствуя о честно выполненном долге. Уже одна мысль о том, чтобы посмотреть в то место, куда падает мой молот, мне кажется невыносимой. От вырванного кома земли меня мутит. В ту самую секунду, когда я разжимаю ладонь в перчатке и чувствую, как до боли выворачивается правое колено, я могу с точностью до пяти сантиметров сказать, куда упадет снаряд, но смотреть на это я не могу. Мне кажется, если бы я зашвырнул все эти тонны чугуна в воду, то, по крайней мере, от них пошли бы круги.
Затем я выхожу из этой клетки, снимаю перчатку, надеваю огромный спортивный костюм, чтобы оставаться в тепле, и начинаю томиться.
Никто не сумеет передать всю полноту грусти тяжелоатлетов. За исключением нескольких американских черных боксеров, они не чувствуют своего тела. Я даже не умею прыгать, и перетираю ляжками штаны, снашивая по паре каждый месяц. Штангисту хотя бы выпадает пятиминутное счастье, когда его объявляют «самым сильным человеком в мире». Мы же, метатели, мы томимся от скуки. Мы сидим на укрепленных скамейках и ждем. Мы все знаем друг друга, не испытывая любви, не испытывая ненависти, и у меня такое чувство, что противника у меня нет.
На самом деле, мой единственный враг — это враг, который не делает мне чести: это депрессия во втором туре. Когда уже слишком поздно отказаться от броска и еще так далеко до финального движения. Это так же важно, как и второй выход для прыгуна, выполняющего тройной прыжок, но он, он-то хотя бы взлетает в воздух....
Он был спортсменом-дегустатором, ценителем изысканных упражнений, который из чисто эстетических соображений предпочитал коллективные виды спорта. Он начал с волейбола и заработал себе репутацию великолепного пасующего. Невысокий, но очень проворный и очень точный, он быстро нашел свое место: спиной к сетке, между этими верзилами-смэшерами, которые гасили из любого положения и которым он с наслаждением предоставлял возможность отличиться. В награду за его божественные пасы — каждый раз, когда команда выигрывала очко — ему хлопали кончиками пальцев по кончикам пальцев. Таков был обычай: поздравляя, спортсмены не очень сильно, но и не очень слабо хлопают друг друга по пальцам, в направленном к себе жесте, как будто продолжающем удар по мячу и словно уводящем от ударов учительской линейкой по пальцам, которые получали еще наши отцы. Он всегда первым, раскрыв ладони, тянулся к мячу и совершал то круговое движение, которое перемещало его на новое место.
И каждый раз получалось так, что смэшеры, — не прекращающие, словно по инерции, еще долго подскакивать после каждого гигантского прыжка, — все время танцевали вокруг него.
Ему очень нравились налокотники и наколенники, которые он надевал, чтобы бесстрашно падать на деревянный настил площадки; ему очень нравилась красно-белая форма его клуба, и у него даже чуть сжалось сердце в тот день, когда он перешел в баскетбол.
Переход был трудным: из разумно упорядоченного мира своей команды на своей половине площадки он попал в другой, запутанный, мир, где партнеры и противники метались, следуя более жестким и импровизированным правилам. Ему пришлось открыть для себя контакт: толчки плечом, развороты стокилограммовых соперников, которые, падая, отдавливают вам ноги: ногти, специально отращиваемые и вонзаемые вам в бок; удары коленом в лицо, наносимые в толкучке, стоит только отвернуться арбитру; так называемые «резкие пасы», направляющие большой, шероховатый мяч прямо в ваше изящное лицо, подобно звонкой оплеухе... Он быстро и успешно приноровился, надел наколенники и приучился хлопать ладонями по ладоням. Здесь радость от заброшенного в корзину мяча выражалась в резких хлопках рука об руку, которые напомнили ему игру в начальной школе «вот моя правая рука, хлоп, а вот моя левая рука».
Контакт в ответ на контакт — однажды ему захотелось узаконенного прикосновения, чья жесткость и хитрость предусматривались бы правилами игры. Он перешел в регби. В его спортивной карьере это был единственный эксперимент с катастрофическим результатом. Устремляясь в самую давку, он словно попадал в сумрачную атмосферу грязных забегаловок, которая навечно и густо зависала в третьем тайме. То, что составляло радость спортивных фанатов, для него оборачивалось настоящей драмой: команда с ее давилами, пронырами, живчиками, увальнями, тупицами, стратегами представлялась ему неоднородной. Спорт, который, как ему казалось, был сделан по образу своего мяча: вытянутый по краям, непредсказуемый в своем отскоке, трудно управляемый... Здесь радость, испытываемая от удачного броска или победы, не находила средств выражения и не изливалась ни в каком финальном ритуале. Мяч забрасывали и торопливо, чуть ли не стыдясь, отходили на свое место. Однажды, когда ему удался красивый удар слета, капитан, проходя мимо, в качестве поощрения хлопнул его по заднице. Эта фамильярность показалась ему невыносимой, и через неделю он ушел из команды.
Он решил забыть о руках, которые до сих пор ему обеспечивали спортивную карьеру, и стал футболистом. Здесь все было не таким грубым, мяч имел более надежную форму, а под полосатыми трусами он отныне носил пару крепких щитков. В результате достаточно долгого и скучного обучения, он нашел путь к цели и, в то же самое время, правильно понятое коллективное счастье. После его первого гола все на него навалились: он был буквально смят под пирамидой воодушевленных футболистов, которые во что бы то ни стало хотели его потрепать, потискать, поздравить... Ему показалось, что его сейчас вомнут в газон, и он задохнется... Его долго не отпускали...
В душевой, все еще пребывая во взволнованном и несколько сентиментальном настроении, он пообещал себе, что останется спортсменом, насколько хватит сил, так как спорт — одна из самых прекрасных вещей, которые люди придумали, чтобы трогать других людей.
Я влюблена в шестовика, и шестовик меня любит. Он живет в моей двухкомнатной квартире, далеко от стадиона, и большую часть времени сидит на моем диване. Иногда мы его раскладываем.
Шестовик — прыгун с шестом очень высокого уровня: чтобы не усложнять, скажем, что он входит в узкий круг из пяти-шести спортсменов, которые тратят всю свою жизнь на прыжки с шестом. Он принадлежит к клану тех, кто подобрался к шестиметровой отметке.
В настоящий момент шестовик как раз расположился на моем диване; он сидит, как сидят все спортсмены: расслабленно, ноги подняты кверху, голова откинута назад. Когда с ним все в порядке, в те дни, когда он не прыгает и не тренируется, чтобы прыгать еще лучше, он пребывает в вялом полусонном состоянии. Сегодня — и это не исключение — с ним не все в порядке. Его терзают муки шестовика. Его лицо непроницаемо. Люди, которые близко не знакомы с шестовиками, могут подумать, что у него плохое настроение. Однако у него нет никакого настроения; если он и расстроен, то только из-за себя самого; он — одинок, он — несчастен, он — словно в конце дорожки для разбега, где рядом нет никого, кто бы мог подсадить его для прыжка. Можно было бы сказать, что к нему просто так не подступиться, но, на самом деле, он вообще неприступен. Когда я трогаю его за икры, они — как деревянные; когда я трогаю его за плечи, они — как каменные. Он словно огражден своими мышцами и мысленно забаррикадирован. Его парализует не бессилие; проблема — не в забеге, не в толчке и даже не в сложном переворачивающем движении, которое я так часто у него замечаю в обычной жизни: все это не то. Все свои технические проблемы он разрешает методично, одну за другой, путем изнурительных тренировок. Нет, технических изъянов у него нет; у него — страх.