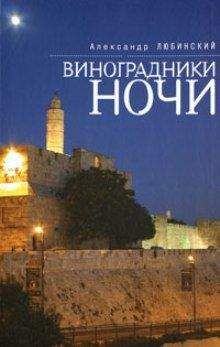Чем может запомниться город? Чьей-то глухой, несостоявшейся судьбой? Уехать в столицу, жениться на дочери раскулаченного купца, да так и не вырваться из омута времени. Кануть в него бесследно и навсегда. А мы с тобой даже поднялись в Иерусалим, подчиняясь все тому же безотчетному стремленью — вырваться, понять, обрести смысл… Но наша дочь, тихий омут, в котором, как оказалось, водятся черти, вернулась обратно — на свою Петровку.
И мы расстались здесь. Добрались сюда, чтобы расстаться. И вот, я пытаюсь подправить свою судьбу. Переписать ее. Протянуть ее нити в прошлое, которое я никогда не видел.
Яков… Почему его не арестовали? Конечно же, он молчал. Но сколько других, таких же, как он, не спасло молчанье? Он старался быть как можно незаметней, но внешность, эта однозначно-определенная, словно выдолбленная в камне на веки вечные внешность, досталась в этом месте и на это время — ему… На уроках он артистически примирял заданную идеологичность с бездонной проблематикой текстов, но, главное, умел при всех обстоятельствах сохранять дистанцию между собой — и миром. В этом была его тихая, тайная сила.
Пусть и он доберется до Иерусалима, о котором лишь тайно грезил. А я — по лестнице времени спущусь к нему.
Итак, два молодых человека, наконец-то, добрались до столицы. Один из них, с молодой красавицей-женой и приличными деньгами, выловленными в мутной воде экспроприаций, поселился на Варшавском шоссе, в комнатенке с покосившимся полом, однако же сразу же приобретшей уют: муаровые занавески на окнах, салфеточки на буфете, три слоника, которые со временем дойдут по поверхности комода до меня, вздымая вверх свои пожелтевшие хоботы. А комната со временем расширится, квартирка обустроится, и даже соседство Вальки Никифоровой не порушит уют, поскольку Валька будет уважать властную и мудрую Ребекку…
И другой — тоже приедет в Москву. Я никогда не видел его. И, может быть, потому, мне кажется, что он был похож на меня. Как и тот — он поселится на окраине Москвы, снимет комнату, переделанную под жилье то ли из курятника, то ли из хлева. И трамвай будет звенеть и стучать по рельсам, тащиться от окраины — к центру, где институт, в который он поступил… Голодно, холодно, молодо, весело! И вот уже ходишь с другом на диспуты в Политех, в театры и цирк; постукиваешь ногами в драных валенках, кутаешься в разлезшийся на нитки шерстяной шарф; в огромном гулком зале, где слова леденеют вместе с паром изо рта, читаешь прекрасные книги, и восторг, и молодая, но уже поднявшаяся из глубины души тоска, выливаются в косые, торопливо скользящие по бумаге строчки… Скользят коньки по льду на Чистых прудах; над транспарантом, протянутым во всю ширину катка, грохочет из репродуктора музыка, и чьи-то тени, слившись, летят вдоль кромки льда, а ты — один, и несколько лет будешь один, пока однажды, случайно, не забредешь в библиотеку на Петровке…
Тот, другой, уже открыл свою лавку на рынке. Надел потертую кацавейку, которую больше не снимет; родил между делом сына, и поздно вечером, по возвращении на Варшавку, его встречает красавица-жена… А наливка исходит соком в банке за муаровой занавеской, пахнет детством куриный бульон. И кажется — так будет всегда.
Яков открыл глаза. Он лежал на диване в кабинете Генриха, светило солнце — неизменное, негасимое, недостижимое иерусалимское солнце. Почему что-то снится, а что-то не появляется даже во снах? Словно кануло в черную прорубь вечности. Были же годы тягуче-тоскливого страха, когда она ждала каждый день, что он не вернется домой, а когда приходил, бросалась к нему, словно видела в последний раз. И по ночам, просыпаясь, они вслушивались в ночные звуки, и свет от фар скользил по потолку, заставляя их вздрагивать… Его взяли по дороге домой — наверно, донес пьяница-сосед, что-то оравший на их общей коммунальной кухне про засилье жидов… Не вспоминай! Скользящие тени на потолке, ослепительно-синее небо в прорехах хвойных ветвей… Вырвался все же, добрался… А Оли больше нет. И никогда не будет… Но какое-то чувство, как музыка, подымается, ищет выхода; и возникает чудная мысль, что все поправимо; что, может быть, в каком-то идеальном, параллельном этому мире, она по-прежнему жива, и ждет его в их комнате на Петровке вместе с маленьким существом… Это девочка или мальчик? Пусть будет девочка…
— Эй, ты еще спишь?
В дверях стояла Лена. Спустил ноги на пол, потянулся,
— И Генрих уже здесь?
— Да. Мы вместе приехали.
Разумеется, вместе… И шофер при них. Похоже, они так и живут — втроем.
Проговорила с капризной игривостью:
— Я тебе снюсь, правда? Ты ведь думаешь обо мне?
— Думаю… И о тебе тоже.
— Какой ты скучный! — сказала Лена и ушла.
Каблучки ее застучали на лестнице, через мгновенье грянул над головою Якова веселый утренний гогот архаровцев. Он едва успел подняться, как в комнату вошел Генрих, который тоже выглядел весьма бодро: по-видимому, они неплохо провели время в субботу.
— Как дела?
Прошел к радио, стоящему в углу, повернул ручку. Голос дикторши «Коль Исраэль», читавшей по-английски сводку новостей, заполнил комнату. Радио Яков ненавидел. Оно работало в комнате Генриха весь день, почти без перерыва. Хорошо еще, что время от времени Генрих переключался на джаз и любимый им шансон, который передавала станция Монте-Карло. На сей раз Генриху было не до шансона: дикторша сообщала о том, что этой ночью сгорело кафе, что на углу Агриппас и Кинг-Джордж — согласно предварительной информации, имел место поджог. Хозяин, ночевавший в том же доме в своей квартире над помещением кафе, убит. Ведется расследование… Следующим шло сообщение о том, что группы арабских подростков закидывают камнями автомобили возле Старого города. Повреждено несколько машин. Власти приняли решение усилить патрулирование центральных магистралей. Прогноз погоды…
Генрих вышел на лестницу, кликнул архаровцев. Сбежали вниз — широкоплечие, в одинаковых клетчатых пиджаках. Короткий разговор — и вот уже взревел двигатель, машина выползла за ворота; набирая скорость, скрылась из глаз.
Генрих опустился в кресло. Глаза его за стеклами очков тревожно поблескивали.
— Ты что-нибудь понимаешь?
— Это точно не дело рук англичан. Им это совсем не надо.
— Похоже… Ребята через час вернутся. Будем хотя бы знать обстановку из первых рук.
Возникла Лена, молча поставила два стакана с крепким чаем. Вышла из комнаты.
Яков сел на стул, потянулся к стакану, отхлебнул…
— «Хагане» это ни к чему. Она не хочет лишнего шума. Здесь поработали ребята из «Эцела».
— Почему так думаешь?
— Только они заинтересованы в обострении обстановки в городе. Убитый ведь, насколько я понимаю, араб?
— Да. Его забегаловка служила почтовым ящиком «Эцела». Возможно, англичане засекли его. А всего вероятней, хозяин с самого начала на них работал… Вот его и убрали.
— Думаю, нужно ждать продолжения… Сейчас англичане всполошатся — надо будет снова разнимать евреев и арабов А под шумок «Эцел» совершит очередной налет.
Снова возникла Лена — на сей раз, с бутербродами на тарелке. Поставила на середину стола.
— Что-нибудь еще?
— Иди-иди!
Фыркнула; виляя задом, вышла из комнаты.
Генрих снял очки, потер переносицу… Снова надел очки.
— Если так пойдет, уже через год англичан здесь не будет!
— Вполне возможно… У них проблемы не только в Иерусалиме. Убийство возле Латруна, беспорядки в Хевроне, стычки на побережье… Их трудности растут как снежный ком.
— Вот-вот… Снежный ком. Хорошенький снеговик, а?
Хохотнул, вскочил, заходил по комнате:
— Ознакомился с содержанием папочки?
— О, да! Впечатляет.
— Ведь, правда? Что и говорить… могучая у нас держава! Только вот времени в обрез. А бороться за свои кровные интересы — надо! И именно сейчас, пока не поздно! Ты понимаешь?
— Вполне. Имеются веские основания потребовать возвращения Союзу, как воспреемнику прав царской России, всей собственности местной православной церкви. И не только церкви!
Генрих снова сел в кресло. Помолчал.
— Есть предложения?
Яков потянулся за бутербродом, рассеянно откусил…
— Нужно прикрытие… Организация, от имени которой можно было бы вести переговоры. Неправительственная организация, но обладающая всеми необходимыми полномочиями… Было ведь Императорское палестинское православное общество… Я правильно понял?
— Вполне.
— Почему бы нынешней России не продолжить традицию? Скажем, Палестинское общество?
— Российское палестинское общество!
— Ну, да… Вместо ИППО — РПО. Так короче… Да и лучше звучит. И под прикрытием РПО обратиться напрямую к британским властям с требованием оформить соответствующее соглашение.
— Думаешь, они на это пойдут?