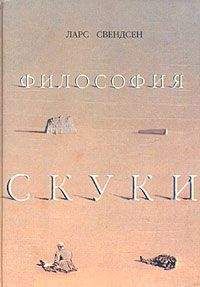Замолчав, Мезряков ждал, что Лецке возразит, будто это история о бегстве, а смерть выступает здесь лишь грозной тенью неумолимого фатума. Но Лецке ничего не сказал. На лбу у него выступил пот, который он вытер, не снимая её, вязаной шапкой. Затем, повернувшись корпусом, расстегнул на коляске боковой карман, извлёк из него пластинку с таблетками и, выдавив одну, сунул под язык. Они уже проехали насквозь весь парк и теперь направлялись к выходу мимо бездействовавшего фонтана с обледеневшей кромкой обмелевшего бассейна.
Транквилизатор подействовал быстро. У Лецке уже слипались глаза.
- Смерть - это бездействие, - вдруг произнёс он глухо. - Это когда по тебе ползёт муха, которую некому прогнать.
Он едва ворочал языком. Мезряков промолчал. Они переходили шоссе, пропуская на переходе машины, которые и не думали тормозить. Надышавшись сырым воздухом, Лецке уснул. Мезряков со скрежетом втиснул коляску в лифт, но он не проснулся. Мезряков вкатил его в комнату, а сам пошёл готовить на кухню. Разбивая яйца для омлета, он опять задумался о будущем. В его возрасте на работу уже не устроиться. Значит, впереди мизерное пособие, позволяющее едва сводить концы. Предстоит оформлять инвалидность Лецке, а это значит возить его по инстанциям, собирать бесконечные справки, доказывая, что надежд на трудоспособность не появилось. Придётся долго обивать пороги, ждать в очередях, унижаться. Чтобы получить крохи. Беспросветная нищета, жалкое прозябание. И так будет тянуться годами! Размешивая сырые яйца, Мезряков представил, как постепенно опускается - перестает бриться, стирать заношенную одежду, в которой будет спать, не раздеваясь, как всё труднее ему будет ухаживать за Лецке. А главное, он вновь утратил обретённую свободу. После того, как он её испытал, это было невыносимо. Вокруг снова была пустота, и каждый день погружал в неё всё глубже. Зачем жить, если завтра умирать? За окном серой простынёй висел день. Точно такой же, какой был вчера и будет завтра. Мезряков механически зажёг газ под сковородкой, вылил на неё взбитые яйца. Лецке безмятежно улыбался во сне, склонив голову набок. Бедный Антон! Зачем тебе просыпаться? Встав на стул, Мезряков достал с антресоли промасленный сверток. Размотав тряпку, соскользнувшую на пол, повертел в руках пистолет. С кухни шёл едкий удушливый запах - подгорала яичница. Сжимая пистолет, Мезряков выключил газ. Его руки не дрожали. Чувствуя холод рукоятки, трогая пальцами гладкий, смазанный маслом ствол, он видел поразительную лёгкость смерти. Достаточно чуть сильнее нажать на торчащую изогнутую железку, и прыжок в небытие будет совершён. Сколько это займёт? Секунду? Две? Чего не испытал, то всегда преувеличиваешь, и это кажется до непреодолимости значимым. Но секунда везде секунда, что по эту сторону мира, что по ту. Мезряков был абсолютно спокоен. Даже равнодушен. Он вдруг осознал, что страх смерти тоже один из ужасов жизни. А сейчас он отступил. Впервые за его жизнь. У него больше не осталось страхов. Не осталось сомнений. Не осталось надежд. У него не осталось ничего. Шагнув к Лецке, Мезряков встал у него за спиной. Чтобы не утратить решимости, быстро снял пистолет с предохранителя и выстрелил ему в затылок. Глядя на развороченные мозги, он вдруг вспомнил, как назывался тот вьетнамский город - Нячанг. Потом зажмурился и, сцепив зубами тёплое от выстрела, солоноватое дуло, дёрнул спусковой крючок.