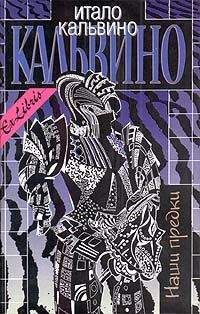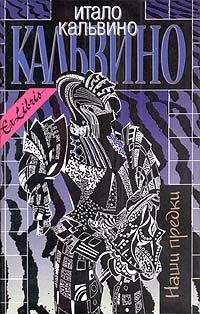Повисшая в этом небе молодая луна больше не притворялась плоским, бесплотным полумесяцем, она открывала свою подлинную природу мира, освещенного косыми лучами солнца, уже невидимого с земли, но сохранившего, как это бывает только в редкие ночи поздней весны, свое тепло.
Марковальдо, глядя на узкую полосу «берега», отделявшего свет и тень на луне, испытывал неясное стремление забраться на этот лунный пляж, чудесным образом залитый солнцем в ночные часы.
Так они стояли у чердачного окна – дети, испуганные огромными последствиями своего поступка, Изолина, словно охваченная экстазом, Фьордалиджи, который один только и различал слабый свет в окошке напротив и заметил, наконец, лунную улыбку девушки.
Мать первая вышла из оцепенения.
– Довольно! Ночь на дворе, чего вы уставились? Еще схватите лихорадку при этой луне!
Микелино прицелился рогаткой в небо.
– А я погашу луну!
Но отец схватил его за шиворот и уложил в постель.
Весь остаток этой ночи и всю следующую ночь от светящейся рекламы напротив оставалось только «СПААК» – из окон мансарды можно было видеть звездное небо. Фьордалиджи и лунная девушка слали друг другу воздушные поцелуи, и, может быть, этот разговор без слов счастливо закончился бы свиданием.
Но вот утром на крыше у решетки, на которой была установлена реклама, появились тонкие фигурки двух монтеров в комбинезонах. Они проверяли трубки и провода. С видом старика, умеющего предсказывать погоду, Марковальдо высунул нос за окно и сказал:
– Сегодня ночью опять будет «НЬЯК».
Кто-то постучал в дверь мансарды. Ему открыли. Оказалось, что это господин в очках.
– Простите, не мог бы я выглянуть из вашего окна? Спасибо, – и представился. – Доктор Годифредо, агент по световой рекламе.
«Мы погибли! Они хотят, чтобы мы возместили убытки!» – подумал Марковальдо, пожирая сыновей глазами. Он совсем позабыл о своем увлечении астрономией. «Сейчас агент глядит в окно, он понимает, что камни могли быть брошены только отсюда», – подумал Марковальдо и решил первым вступить в разговор.
– Знаете, мальчишки кидают камешками по воробьям… Сам не знаю, как от этого могла испортиться надпись Спаака! Но я их наказал, еще бы! Вы можете быть спокойны, это больше не повторится.
Выражение лица доктора Годифредо стало внимательным.
– Собственно говоря, я работаю для фирмы «Коньяк Томавак», а не для фирмы «Спаак». К вам я зашел, чтобы выяснить возможность установки световой рекламы на этой крыше. Но тем не менее говорите, говорите, это меня интересует.
И вышло так, что через полчаса Марковальдо подписывал контракт с фирмой «Коньяк Томавак», главным конкурентом фирмы «Спаак». Ребята должны были стрелять из рогатки по «НЬЯКУ», как только светящаяся надпись снова начнет действовать.
– Это как раз та капля, которая переполняет чашу, – сказал доктор Годифредо.
Он не ошибся: приведенная на край банкротства большими расходами на рекламу, фирма «Спаак» в постоянных поломках своей самой красивой световой рекламы увидела дурное предзнаменование. Надпись, которая гласила то «Коняк», то «Кон…к», то «Конья», распространяла среди кредиторов мысли о неустойчивости фирмы, покуда, наконец, рекламное агентство не отказалось впредь производить ремонт вплоть до уплаты по всем задержанным счетам. В конце концов угасшая реклама до того всполошила кредиторов, что фирма «Спаак» прогорела.
В небе Марковальдо полнолуние сияло во всем своем великолепии. Но когда луна достигла последней четверти, монтеры снова вскарабкались на крышу дома напротив, и ночью на ней зажглись огненные буквы вдвое выше и вдвое толще прежних – «КОНЬЯК ТОМАВАК» – и больше не было луны, не было ни звездного неба, ни ночи, был только «КОНЬЯК ТОМАВАК», «КОНЬЯК ТОМАВАК», «КОНЬЯК ТОМАВАК»… который зажигался и гас через каждые две секунды.
Больше всех огорчался Фьордалиджи: лицо лунной девушки совсем исчезло за огромным и непроницаемым «В».
Курица в цехе
Перевод А. Короткова
У вахтера Адальберто была курица. Сам он служил во внутренней охране большого завода, а курицу с разрешения начальника охраны держал на тесном заводском дворике. Он мечтал со временем обзавестись целым курятником и для начала купил эту курицу, за которую поручились, что она прекрасная несушка, отличается тихим нравом и никогда не посмеет нарушить своим кудахтаньем строгий заводской порядок. И действительно, Адальберто не на что было жаловаться. Курица каждый день несла по одному яйцу, и если бы не робкое квохтанье, ее можно было бы назвать совершенно немой. Правда, если говорить по совести, начальник охраны позволил держать ее только в клетке, но поскольку земля, ставшая теперь заводским двором, до недавнего времени не испытывала на себе влияния технического прогресса и в ней, кроме ржавых болтов, водились также дождевые черви, курице негласно разрешено было ходить и клевать где угодно. Таким образом, она беспрепятственно расхаживала по цехам, всегда сдержанная и благовоспитанная, хорошо знакомая всем рабочим, и наслаждалась полнейшей свободой и безответственностью, чем вызывала всеобщую зависть.
Однажды старый токарь Пьетро заметил, что его одногодок, контролер Томмазо, стал приходить на завод с полными карманами кукурузных зерен. Не совсем еще утративший крестьянские повадки, контролер давно уже оценил производительные качества этой пернатой животины и, снедаемый желанием хоть чем-то возместить убытки от всяких поборов и штрафов, стал исподволь приручать курицу вахтера в надежде заставить ее класть яйца в ящик из-под железного хлама, стоявший рядом с его верстаком.
Каждый раз, обнаруживая, как скрытен и хитер его приятель, Пьетро чувствовал себя обиженным, ибо эти открытия всегда заставали его врасплох, и он всячески старался не отставать от Томмазо. А с того дня, как стало ясно, что им предстоит породниться (сыну Пьетро взбрело в голову жениться на дочери Томмазо), ссоры между ними стали вспыхивать на каждом шагу. Поэтому Пьетро тоже запасся кукурузным зерном, опростал ящик из-под металлической стружки и, пользуясь каждой свободной минутой, стал переманивать курицу к себе. В конце концов получилось так, что в этой игре, где ставкой были не столько яйца, сколько моральная победа, самая азартная борьба велась между Пьетро и Томмазо, а вовсе не между ними и беднягой Адальберто, который обыскивал рабочих при входе и выходе, шарил по сумкам и за блузами и решительно ни о чем не подозревал.
Рабочее место Пьетро находилось в самом углу цеха и отделялось небольшим простенком, образовывавшим как бы самостоятельное помещение, нечто вроде «прихожей» с застекленной дверью, выходившей во двор. Еще несколько лет тому назад в этой «прихожей» стояло два станка и работало двое токарей: он и еще один. Но однажды второго токаря отправили в больницу с грыжей, и Пьетро временно пришлось работать сразу на двух станках. Волей-неволей ему пришлось научиться рассчитывать каждое движение: опустив рукоятку автоматической подачи на одном станке, он переходил к другому и отрезал уже готовую деталь. Его бывший напарник, вернувшийся после операции, был направлен в другую бригаду, и оба станка так и остались за Пьетро. Больше того, чтобы он яснее понял, что это не случайная забывчивость, к нему послали хронометражиста. Тот прохронометрировал каждое его движение, и поскольку по его подсчетам выходило, что между операциями на том и другом станке у токаря оставалось еще несколько свободных секунд, Пьетро поставили третий станок. Потом, во время всеобщего пересмотра ставок, чтобы вернуть ту сумму, которую он терял, ему пришлось взять еще и четвертый станок. Так в свои шестьдесят лет он должен был научиться выполнять четыре нормы за то время, которое раньше отводилось для одной. Но поскольку заработок его оставался прежним, эти изменения ничего ему не принесли, кроме бронхиальной астмы и навсегда укоренившейся дурной привычки – едва добравшись до стула, сразу же засыпать мертвым сном в любой компании и при любых обстоятельствах. Однако старик он был крепкий и, главное, полный неиссякаемой душевной бодрости и потому неизменно и твердо верил, что стоит на пороге больших перемен.
Восемь часов в день Пьетро кружил между четырьмя станками, каждый раз повторяя одни и те же строго последовательные движения, заученные, отшлифованные с точностью до микрона. Даже свое тяжелое дыхание астматика он сумел подчинить ритму работы. Даже его глаза двигались по определенной, строго выверенной орбите не хуже небесных светил, ибо на каждый станок требовалось смотреть в определенный момент, чтобы ни один из них ни секунды не работал вхолостую и не сорвал ему выполнение нормы.
Проработав первые полчаса, Пьетро уже чувствовал себя усталым. Многоголосый заводской шум сливался у него в ушах в монотонно гудящий фон, на котором четко выделялся переплетающийся в сложном ритме рокот его станков. Подталкиваемый этим ритмом, он, как заведенный, двигался взад и вперед до тех пор, пока не раздавался жалобный скрип ремней трансмиссии, которые, замедляя свой бесконечный бег, наконец, замирали, возвещая об аварии или о конце рабочего дня. Для него этот скрип был не менее желанным, чем силуэт берега для потерпевшего кораблекрушение.