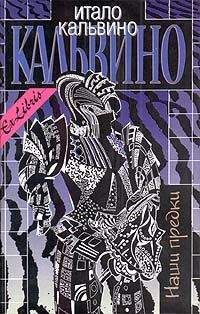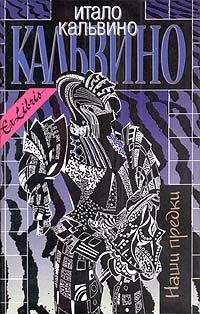И вот теперь его приставили к старому глуховатому токарю, работавшему на отшибе, в стороне от остальных. Что можно тут высмотреть? Уж не докатился ли он сам, подобно жертвам своих доносов, до той ступеньки, за которой только одна дорога – за ворота? И Вонючка по целым дням ломал себе голову над тем, как бы напасть где-нибудь на след, найти какую-нибудь улику или хоть что-нибудь, о чем можно было бы донести. Время для этого было самое подходящее: на фабрике – дым коромыслом, рабочие того гляди взбунтуются, а у начальства ото всего этого волосы дыбом встают. И в голове у Вонючки понемногу начала вырисовываться одна идея. Дело в том, что каждый день в определенный час в цехе появлялась курица, которую токарь Пьетро почему-то обязательно брал в руки. Он приманивал ее кукурузными зернами и, когда она подходила, совал руку ей под хвост. Что все это могло значить? Уж не было ли это новым способом передавать секретные записки из одного цеха в другой? Скоро Джованнино твердо в этом уверился. То, что проделывал с курицей Пьетро, очень напоминало движения человека, что-то разыскивающего или прячущего в перьях птицы. И вот в один прекрасный день, дождавшись, когда Пьетро отпустил курицу, Вонючка отправился следом за ней. Курица перешла через двор, взобралась на кучу железного лома – Вонючка последовал за ней, с трудом удерживая равновесие; она юркнула в старую канализационную трубу – Вонючка на четвереньках прополз следом; курица пересекла другую половину двора и вошла в цех, где работали приемщики. В этом цехе был другой старик, который, по всей видимости, ждал ее появления. Он то и дело поглядывал на дверь, а заметив, что курица вошла в цех, тотчас же отложил молоток и отвертку и двинулся к ней навстречу. С этим стариком курица тоже была близко знакома, потому что позволила ему поднять себя за ноги и – ага, и тут то же самое! – потрогать у себя под хвостом. Теперь Вонючка уже не сомневался, что он напал на след серьезного преступления. «Яснее ясного, – думал он, – Пьетро каждый день посылает записки этому старику. Ну что ж, завтра, как только курица уйдет от Пьетро, я велю арестовать ее и обыскать».
Назавтра Пьетро, без особой нужды пощупав курицу и с некоторой грустью опустив ее на землю, увидел, что Вонючка бросил свой напильник и чуть ли не бегом кинулся вон из цеха.
Выскочив во двор, он поднял тревогу, и через минуту заводская охрана была готова к облаве. Курицу, мирно клевавшую личинки насекомых, которые попадались среди валявшихся в пыли болтов и гаек, накрыли во дворе и препроводили в контору к начальнику охраны.
Что касается Адальберто, то он пока еще ни о чем не подозревал. Поскольку не исключалось, что он тоже может быть замешан в этом деле, вся операция была проведена втайне от него. Его вызвали только тогда, когда курица была уже на столе начальника охраны. Войдя в контору и увидев курицу в руках своих коллег, он приготовился выслушать обвинение в том, что позволил ей разгуливать по заводу.
– Что она такое натворила? Как же так? Я ведь ее из клетки не выпускаю!.. – чуть не плача, забормотал он.
Но очень скоро ему пришлось убедиться, что обвинения, выдвинутые против курицы, гораздо серьезнее. Начальник охраны, в прошлом унтер-офицер карабинеров, требовал от своих теперешних подчиненных, тоже отставных карабинеров, строжайшего соблюдения военной субординации. Он засыпал владельца курицы градом вопросов. Во время допроса Адальберто больше всего дрожал за свою репутацию. Страх этот был сильнее его привязанности к курице и даже сильнее надежды на будущий курятник. Воздев руки, он попробовал было оправдываться в том, что выпустил свою пернатую животину из клетки, но когда начались вопросы о связях курицы с профсоюзами, то, боясь скомпрометировать себя, он не только не посмел просить о ее реабилитации, но даже не попытался подыскать для нее какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Спрятавшись за многочисленными «я не знаю», «я тут ни при чем», он помышлял лишь о том, чтобы его самого как-нибудь не впутали в эту историю.
Благонадежность вахтера была восстановлена, но теперь, терзаемый угрызениями совести, он готов был заплакать, глядя на свою курицу, брошенную им на произвол судьбы.
Отставной унтер-офицер приказал обыскать преступницу. Один из вахтеров сейчас же отказался, заявив, что его тошнит от одного запаха курицы, другой, познакомившись с ее клювом, ретировался, посасывая кровоточащий палец. Наконец сыскались люди, готовые на все, только бы лишний раз показать свое усердие. Этими экспертами было установлено, что в яичном проходе курицы нет никаких посланий, враждебных интересам заводской администрации, а равно и всяких других. Дока в разных военных хитростях, бывший унтер-офицер приказал пошарить у курицы под крыльями, так как именно там прячут обычно специальные запечатанные патрончики с депешами в подразделениях голубиной связи. Эксперты принялись шарить под крыльями, усеяли весь стол перьями, пухом и грязью, но так ничего и не нашли. Тем не менее, признав, что для невиновной она слишком подозрительна и вероломна, курицу приговорили к смертной казни. И вот на том же унылом дворе два человека в черной форме крепко схватили ее за ноги, в то время как третий принялся сворачивать ей шею. У нее вырвался долгий пронзительный крик, последнее скорбное кудахтанье, и это у нее, всегда такой сдержанной, ни разу не посмевшей заквохтать даже в минуты радости! Адальберто закрыл лицо руками. Его смиренная мечта о звенящем веселым писком курятнике погибла, едва родившись. Так всегда случается. Любая машина притеснения непременно раздавит того, кто ей служит. А хозяин завода, и без того озабоченный тем, что предстояло принять делегацию рабочих, протестовавших против увольнений, услышав из своего кабинета предсмертный крик курицы, счел это дурным предзнаменованием.
Ночь, полная цифр
Перевод А. Короткова
В переулки и улицы пробираются вечерние сумерки. Они закрашивают черным просветы между листьями деревьев, рассыпают пунктиры искр за бегущими дугами трамваев, расступаются туманными конусами под вспыхивающими в точно назначенный час фонарями, зажигают праздничную иллюминацию витрин, а выше, на фасадах домов, подчеркивают целомудренную скромность занавесок на окнах жилых квартир. Зато ничем не заслоненные квадраты света в бельэтажах и во вторых этажах разбалтывают конторские тайны тысяч учреждений города. Рабочий день кончается. С валиков пишущих машинок, что выстроились рядами на столах, снимаются и освобождаются от копирки последние листы, на столы начальников ложатся папки с корреспонденцией на подпись, машинистки закрывают футлярами свои машинки и направляются в гардероб или, уже одетые, толпятся в тесной очереди около табельных часов. Скоро все пустеет. Теперь в окнах нет ничего, кроме вереницы безлюдных комнат, залитых мертвенным светом неоновых ламп, который, отражаясь от белых потолков, падает на яркие разноцветные квадраты стен, на блестящие голые столы, на счетные машины, переставшие с грохотом напрягать свой электронный мозг и заснувшие стоя, как лошади. Но вот на фоне этих прямоугольных декораций вдруг появляются немолодые женщины в халатах, разрисованных ядовито-зелеными и пунцовыми цветами, одни в платках, другие в косынках, третьи с непокрытой головой и косами, уложенными «короной», все с высоко подоткнутыми подолами, открывающими их распухшие ноги в шерстяных чулках и лоскутных тапочках. Это ведьмы, рожденные канцелярской ночью. Схватив в руки метлы и щетки, они набрасываются на все эти блестящие поверхности и начинают выводить на них свои кабалистические знаки.
В квадрате одного из окон появляется засыпанная веснушками мальчишечья мордочка, над которой торчит колючий хохолок черных волос. Мордочка показывается и пропадает, потом снова возникает уже в следующем окне, потом – еще дальше, еще дальше, мелькая, словно луна-рыба в аквариуме. Но вот она останавливается в углу крайнего окна. В ту же секунду неожиданно опускаются жалюзи, и сияющий квадрат аквариума исчезает. Одно, другое, третье, четвертое – все окна одно за другим гаснут, и последнее, что мелькает в каждом из них, – это гримаса мальчишечьей физиономии.
– Паолино! Все ставни закрыл?
Хотя утром Паолино надо рано вставать и идти в школу, мать каждый вечер берет его с собой, чтобы он помогал ей и приучался к труду. И именно к этому часу ему на веки начинает давить мягкое облако дремы. После темной улицы эти пустынные, залитые ослепительным светом комнаты словно оглушают его. Даже настольные лампы не погашены и склоняют над полированными крышками столов свои зеленые колпаки на длинных гибких шеях. Проходя по комнате, Паолино нажимает на кнопки выключателей и гасит лампы, чтобы смягчить этот нестерпимый блеск.
– Что ты делаешь? Нашел время баловаться! Помог бы мне лучше! Жалюзи закрыл?