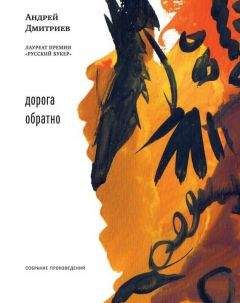— Выходи, — раздается внезапно и громко под низким потолком дома музейного сторожа, и Снетков испуганно замолкает.
Дверь распахнута. Воспитательница Ольга Павловна стоит на пороге.
Черное тело течет меж ветвей — сквозь тесное их сплетение — и вздрагивает, дыша; две желтые вспышки пронизывают куст мгновенным мерцанием… Мальчик не боится. Уж — это совсем не страшно, даже привычно: множество их живет на склонах горы. Когда отец привез его на гору, первое, что увидел мальчик, были трупы ужей, прямые и длинные, как резиновые плети. Они лежали в ряд на тропе, и красные жирные муравьи жадно сновали по их черной, высыхающей на солнце коже… Мертвые ужи висели на сучьях яблонь, привлекая к себе тяжелых, гудящих мух, гнили, распластанные и раздавленные, в сырой тени стен… Стоило живому ужу неосторожно прошелестеть в траве, как воинственные крики, визги, завывания детей потрясали гору. Свистели прутья, летели камни, и так продолжалось изо дня в день, пока главный врач не вышел из себя. Он приказал дудеть сбор, выстроил всех в две шеренги, — кричал, плевался, махал кулаком, обзывал садистами, фашистами и живодерами, говорил и другие слова, за которые потом, правда недолго, многим мечталось ему отомстить. «Откуда в вас, засранцах, эта гадость? — вопил он. — Где вы этого набрались?.. Я знаю, у кого вы этого набрались! Будь моя воля!..» — грозил он, потом вдруг сразу устал, сник, сморщился, как кислородная подушка, и, не глядя им в глаза, принялся рассказывать про ужей разные занимательные разности и даже припомнил историю о том, как одна красавица по имени Ель полюбила Короля ужей и отправилась с ним жить в его ужиное царство… Главный врач забыл, чем кончалась история, сказал: «…Ну, вы сами догадайтесь или придумайте, чем там у них кончилось», потом сказал «свободны» и, не оборачиваясь, побрел к себе в амбулаторию… Ужей больше не трогали, уступали им дорогу, иногда ловили, чтобы попугать девочек, и сразу отпускали… Если кому-нибудь из новеньких по незнанию случалось убить ужа, над ним вершили суд в его отсутствие и наказывали не битьем втемную, не мазаньем зубной пастой, но самым страшным наказанием — нападением.
…Он ведь ничего не подозревал, этот новенький, все еще радостно возбужденный тем, что ему удалось убить змею; когда играл себе где-нибудь на территории, он не успевал спросить себя и задуматься, почему никто не присоединяется к его игре, не разговаривает с ним и даже не приближается к нему. А в это время все, и старшие и маленькие, сбивались в кучу подальше от него, чтобы попросторнее было пространство для общего разбега… И, увидев это из своего далека, поймав на себе затаенные взгляды десятков глаз, он начинал испытывать первый, еще не самый сильный страх, схожий с удивлением, и первый легкий озноб пробегал по его спине… Потом он слышал тихое, тоскливое, все более грозное завывание — и вся куча с визгами, криками и воем вприпрыжку устремлялась к нему, неслась галопом прямо на него; другой, по-настоящему страшный страх захлестывал его горло — и новенький, не в силах крикнуть или заплакать, пускался убегать со всех ног, а куча гнала его, усиливая вой, подгоняя, но не настигая… На этом бегу, при этом нападении, которое длилось недолго и завершалось ничем: затухало само по себе, рассасывалось и разбредалось, потому что в гоне как таковом и была вся соль и цель нападения, — во время этого гона уже не страх, сколь угодно страшный, охватывал гонимого, но нечеловеческий, беспредельный ужас, который он потом никак не мог забыть, — не мог и уже не сможет забыть во всю свою жизнь… На мальчика не нападали ни разу, а когда он сам нападал, вместе со всеми, потому что, если ты не хочешь сам стать гонимым, ты должен быть вместе со всеми, — он никогда не выл, кричал скорее от тоски и необъяснимого испуга и всегда отставал на бегу.
Ветер зло бьется об гору, обрушивая в далекую воду сухие сучья, комья земли и щебенку. В шумящих ветвях не слышно больше ни шороха ужа, ни его шипения. Мальчику не хочется думать, что уж уполз, испугавшись его. Ему хочется поймать ужа, успокоить тихим поглаживанием и, когда он смирится и перестанет панически извиваться в кулаке, согреть его на себе, играть с ним и беседовать. Мальчик просовывает в толщу куста озябшую руку, шарит ею с боязливым азартом и тотчас отдергивает, уколовшись о сухую колючку шиповника. Обидная боль заставляет его забыть об уже, а холодная, огромная, наполненная громким ветром пустота вокруг — вспомнить о своем одиночестве. Впервые здесь, наверху, он чувствует себя не радостно уединенным, не свободно парящим над рекой и заречной равниной, но прикованным к стене, наказанным безо всякой провинности. Он пытается вновь развлечь себя зрелищем борьбы разноцветных речных потоков, но усиливается ветер, рябые мутные волны дыбом поднимаются на их спинах, и тяжелая туча, поплывшая вдруг над горой, накрывает эту бестолковую рябь своею густой тенью. Спина мальчика стынет от сырого дыхания стены. Там, за стеной, отец, должно быть, гремит своими сапогами, ищет его, зовет и злится у всех на виду. Стыд за отца и жалость к нему мгновенным и знакомым током пронизывают его существо… Это было не раз, а впервые было давно, до горы, в дошкольной жизни. Был праздник, обернувшийся этим стыдом и этой жалостью. Отец объявил тогда, что берет его с собою и своими друзьями на настоящую ночную рыбалку. Это будет трудное и опасное путешествие, строго сказал отец, постарайся меня не подвести… Было четверо незнакомых мальчику мужчин в ватниках, поначалу молчаливых и как бы сконфуженных, конечно же, от робости перед его отцом: он ведь взял их с собой на рыбалку, он, как мачта, возвышался над ними, коротковатыми и сутулыми, сидя на лодочной корме. Был стук мотора, мерный, негромкий, вгоняющий в сон, и мальчик боролся со сном, потому что боялся подвести отца. Был плеск убегающей предзакатной волны, бензиновый сизый дымок, стелющийся над нею и отлетающий назад, к берегу, к дому. Был ветреный красный закат, и сумерки, и тьма в неведомой озерной протоке; стебли сумрачной тресты, жесткие, как жесть, качались над головой, трещали и гудели во тьме… Во тьме поднимали загодя поставленные мережи, крякали, негромко ругались, невесело похмыкивали: «Бастует рыба», «Это рыба? Это не рыба — коту на великий пост», и мальчик понял: рыбалка не удалась, и испугался, решив, что это он подвел, принес неудачу, но миновало, никто не сказал ему об этом.
Потом был багровый костер на острове, огромный круглый котел, обросший толстой маслянистой копотью, и мальчик перепачкал ею ладони… Он сидел на каком-то мокром и рыхлом бревне, стараясь не уснуть, и тени людей, неотличимые одна от другой, качались и кружили вокруг костра. Отец один не был тенью; мальчик легко узнавал в отсветах красного огня его длинное, уверенное тело: оно было осью острова, озера, этой огромной праздничной ночи. Остров кренился набок, когда отец склонялся над костром, уходил из-под ног и исчезал вовсе, когда он, топая и хлюпая сапогами по мокрой траве, куда-то скрывался во тьме… «Ты у нас не пьешь, так мы без тебя, — неуверенно прося у отца разрешения, сказал один из его друзей. — Мы пока отметим, ты пока вари. Жидковата будет юшка, а все уха. Главное, амбре, я правильно формулирую?» Отец не ответил, он тихо сказал мальчику: «Не спи, учись, дома выспишься… Берем для начала рыбку и чистим ее с хвоста…» Мальчик уснул все же… Потом его разбудили и дали миску с ложкой. Он сидел с миской на коленях и глядел в догоравший костер. В прозрачном трепете вспыхивающих и хмурящихся углей он увидел лицо тигра. Рядом с тигром была сова. Сова сонно мигала своими глазами, а тигр важно дышал. Он не мог оторваться от совы и тигра, ждал, когда они поглядят на него из углей и заговорят с ним, но чья-то тень, кряхтя, заслонила собою угли, нависла над котлом, потом вдруг закричала: «Ты что варил?» — и заругалась запрещенными словами. Отец сказал: «А что?» — и принялся оправдываться. Он думал, рыбы слишком мало, не уха — одно амбре, вот и решил сдобрить ее для сытости: всыпал в котел полпачки яичных макарон. «Полпачки? Вот и жри теперь сам этот клейстер, козел», — сказали отцу его друзья, отошли во тьму, писали там и шушукались… Вернулись, взяли мальчика за руку, сказали: «Пошли, мужик», и он покорно пошел, ничего не понимая. Они посадили его в лодку и сели сами. Зарычал мотор, лодка отчалила, и мальчик понял, что отца в лодке нет… Они плыли и плыли по озерным протокам, по светлеющей тихой воде. Трое угрюмо молчали, а четвертый говорил мальчику: «…нам с тобою кайф сломал… Кайф сломал, ты хоть понимаешь, что это такое значит? Или я неясно формулирую? Читать не умеешь? Читать когда научишься, будешь книжки читать и узнаешь, что за такое бывает у серьезных путешественников. Разговоров не разговаривают. Высаживают на какой-нибудь необитаемый остров без живой души вокруг, и прощай. Поживи один, может, что и поймешь…» Мальчик молчал. Он решил не плакать и молчать. Приплывут домой, он их всех убьет. Возьмет эту лодку и уплывет на остров к отцу… Он неподвижно сидел возле самого борта и запоминал дорогу. Встало солнце, вода вспыхнула миллионами стальных лезвий, и они впились ему в глаза. Мальчик зажмурился от боли и услышал, как сбился с такта и замолк мотор. Четверо в ватниках опустили якорь посреди протоки и молча развернули удочки. Никогда прежде мальчик не видел столько живой рыбы — сверкающей, плещущей на крючке, бьющейся в ногах на дне лодки. Стало жарко, пар пошел от воды, и кончился клев. Четверо в ватниках завели мотор, развернули лодку и, похохатывая, похлопывая мальчика по спине тяжелыми, перепачканными рыбьей слизью ладонями, поплыли назад, к острову. Мальчик издалека увидел отца. Голый по пояс, он прыгал по воде вдоль берега и изо всех сил махал какой-то тряпкой на палке… «Думал, хоть пассажирский пройдет, флаг из рубашки соорудил, чтоб заметили, — давясь от счастливого смеха, рассказывал отец и больно теребил мальчику волосы дрожащей рукой. — Костер как потух — ну, думаю, все, приехал, вы же спичек мне не оставили!..» Четверо в ватниках посмеивались, пили, отец жадно выпил вместе с ними, а потом, глядя, как другие варят уху, сказал мальчику: «Век живи, век учись, дураком помрешь. Я внятно формулирую?» — и сконфуженно фыркнул, обрызгав слюною свои длинные тощие руки. Мальчик не стал есть уху — убежал подальше от костра, в болотистые заросли, и плакал там от жалости и стыда… Он простудился после этой рыбалки. Лежал на жаркой, влажной постели и слушал, как мать ругает отца навзрыд, страшными словами, сбиваясь с них на какой-то невнятный, тоскливый лай; отец кричал на мать; потом они мирились за стеной — сопя, хрипя, задыхаясь, — бились там, как две рыбы, брошенные на дно лодки… Мальчик болел недолго, но его долго водили к врачам, заставляли раздеваться, глубоко, до головокружения, дышать, потом отправляли в темную жужжащую комнату, прислоняли голого к какой-то холодной стеклянной штуке, похожей на телевизионный экран, и что-то бормотали по ту сторону экрана… Положительное Пирке, палочка, очажок, процесс — услышал он тогда странные слова, потом слышал их часто и, не понимая их, привык к ним.