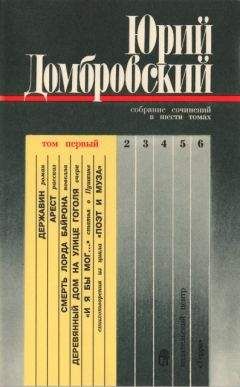Он думал захватить город набегом, поставить несколько пушек и открыть непрерывный, губительный огонь по крепости. Во время этого огня несколько человек, во главе с ним, должны ударить на город и открыть стрельбу.
Очень хорошо бы, если бы как-нибудь удалось поджечь деревянные стены города. Тогда бы отряд гусаров, с обнаженными саблями, встал бы около пожарища, рубя всех, кто думает спастись. Огонь, барабанный бой, ночной набег, беспрерывная стрельба — вот на что рассчитывал Державин.
Он обдумывал этот план тщательно, несколько раз меняя отдельные детали. Около Яика он никогда не был и поэтому крепость и расположение вражеских сил представлял очень смутно, но основные элементы его — ночь, пожар, набег оставались неизменными.
Он настолько реально представлял себе черную громаду спящей крепости, лишь кое-где озаренной желтыми сторожевыми огнями, серую воду, отразившую форму его солдат, и пальбу, и крик, и желтые клубы огня, поднимающегося все выше и выше, что часто взятие Яика ему казалось делом уже решенным.
Он так ясно представлял себе все, так точен и безошибочен был его расчет, что казалось, никакая случайность, никакое непредвиденное обстоятельство не может помешать ему. Он все взвесил, все обдумал, все учел. И тем не менее, несмотря на эту уверенность в победе, он отлично сознавал, что рискует жизнью. Бывали у него такие минуты, когда он совершенно искренне считал себя обреченным.
Тогда он начинал считать. 400 человек, думал он, и 4000. Пять орудий и пятьдесят. Все это составляет огромную гибельную разницу. Его расчет верен. Яик, конечно, будет взят. Но ему-то, Державину, не уйти живым. Его убьют. И убьют при первом же приступе.
Так начиналось то, что в случае совершения называется предчувствием.
Со странным любопытством он теперь разглядывал свои руки, присматривался к манере своей ходить и разговаривать. Вдруг вспомнил, что в далеком детстве он, прыгая через плетень, поскользнулся и упал на лицо. На левой скуле с тех пор остался мало заметный, но довольно глубокий лиловый рубец. Он щупал этот рубец и думал: «Вот все это — рубец на скуле, манера ходить, разговаривать, смеяться, манера отвечать на вопросы не сразу, а после небольшой паузы, — все это я, Гаврила Романович Державин. Я живу, думаю, двигаюсь, составляю прожекты, посылаю лазутчиков, пишу донесения. Вот я стою здесь перед зеркалом, длинный, сильный, молодой, высокий, с шрамом на левой щеке, с звонким жестким голосом и резкими порывистыми движениями. Меня убьют при осаде, и я умру. Вот тот самый, что вычерчивает прожект взятия крепости. Оторвут ядром голову, или всадят пулю, или просто возьмут в плен и повесят на дереве. Я знаю, что я скоро умру».
Это ощущение смерти, как он ни гнал его от себя, было настолько же частым, как и ощущение победы.
Гром барабанов, торжественный рев струн, арки, выстроенные по дороге триумфального шествия, — эти картины не отличались такой же реальностью, как и видения смерти, но тем не менее он видел и их достаточно часто. Особенно запомнились ему полеты во сне, это ощущение медленного, но неуклонного подъема на гору, когда кружится слегка голова и сладко ноют пальцы ног. Он поднимался на эту гору чуть ли не каждую ночь. Сны не сопровождаются подробностями. Это не был даже сон, с определенным содержанием, действующими лицами и с каким-то действием. Никакой толкователь снов не объяснил бы ему его значения. Это было просто голое ощущение подъема, — все выше, выше, кружится голова, замирает сердце, а он взбирается еще и еще и, наконец, на какой-то недосягаемой высоте застывает в предчувствии падения. Упадет или нет? Он ничего не видит, но знает, что эти минуты решают все. Упадет или нет? Внизу земля, и многие часы лететь ему вниз, прежде чем, расплющиваясь, ударится он об эту землю.
Это ощущение незримого полета Державин сохранил наяву и запомнил на всю жизнь.
IV
Наконец возвратился Серебряков. Холодея от ярости, читал Державин письмо Кречетникова. Такого отказа, прямого, насмешливого, наглого, он не ожидал. Он и вообще не ожидал отказа. Но то, что прислал сейчас губернатор, превосходило всякое вероятие. Он знал Кречетникова и раньше — сухой, надменный, насмешливый, может быть, немного туповатый, но совсем не глупый старик, ера и насмешник, он никогда не лазил за словом в карман, и то, что он говорил, было всегда к месту. Был он правил немногих, но твердых, и никогда им не изменял. Так, в частности, он очень строго отделял дворянство родовитое от дворянства служилого. С первым он вел себя ласково, мягко и даже заискивающе. Зато вторых открыто презирал, говорил с ними боком, через зубы, поворачивался к собеседнику задом, бросая на него иногда мимолетный настороженный взгляд. Служилых дворян за глаза он называл шпаками — так на Украине зовут скворцов — и бездомниками. Таким шпаком и бездомником был для него Державин. С этой стороны отказ был вполне понятен. Но как губернатор мог пойти против прямого приказа Бибикова?
Державин прочел его наглое и вежливое письмо еще раз и только тогда вдруг понял, в чем дело. Пугачев был разбит и, как, наверное, считал этот осел, ни с Державиным, ни с Бибиковым больше считаться не приходилось. Однако известие его поразило отнюдь не с этой стороны. Оказывается, надо было спешить. Правительственные войска делали крупные успехи, самозванец первый раз был бит по-настоящему, это уже говорило о многом. Если можно было снять патрули с Волги и послать их в погоню за остатками пугачевской армии, почему тому же Кречетникову нельзя было послать их в Яик? И, конечно, он не позабудет этого сделать. Собрать небольшой отряд, вооружить его и послать на выручку осажденному городу — дело отнюдь не большой трудности. Ведь у Кречетникова много людей, и армия его не убудет. Он сделает это, сделает непременно, и хотя бы в пику Державину. Тогда все — и почести, и слава, и награды достанутся не Державину, а этому злобному старику. Может быть, поэтому он и отказал ему в подкреплении.
Серебряков стоял неподвижно около двери, смотря на Державина. Державин подошел к нему.
— Завтра собираемся в поход, — сказал он. — Созови крестьян и утром приведешь их ко мне. Оружие достанем.
В этот день он просидел до ночи, составляя письмо к Бибикову. Письмо было большое. В нем сообщалось, что господин Кречетников, неизвестно по каким причинам, отказался отпустить солдат для освобождения города Яика. Поэтому, он, Державин, выходит один, с поселянами, вооруженными оружием, найденным им в конторе села Малыковки. Оружие старое, ржавое, и успех с ним более чем сомнителен. Однако он не смеет медлить. Несмотря ни на что он пойдет к городу Яику. А там что видно будет.
Написав письмо, Державин успокоенно улыбнулся. Он знал, что Бибиков этого отказа Кречетникову не простит.
V
За сто верст от Яика решили сделать привал. Державин расставил дозор и велел разбить походные палатки. Зажгли костры. Державин смотрел, как тонкий сизый дым полз по земле, цепляясь за жесткий и звонкий кустарник. Лошади, привязанные к деревьям, — здесь была небольшая рощица — били землю, поднимая чуткие острые уши. Державин сел перед костром и обхватил голову руками.
Это — выгодное предприятие, которое он задумал. Да, да, именно так и следовало. Собрать небольшую силу воинскую и тронуться на спасение города. Трудное дело, опасное, но в смысле результатов оно гораздо благороднее следственной работы. И если ему теперь действительно удастся взять Яик какими горячими похвалами засыплет его тогда Бибиков.
Царская армия имеет генералов, губернаторов, войска, пушки, крепости. Но у ней нет героев, некого венчать лавровыми венками, не для кого строить триумфальные арки, некому слагать оды. Армия состоит из изменников, трусов, шкуродеров.
Генерал Кар, оставивший войско и бежавший в Москву, капитан Балахонцев, бросивший Самару и убежавший в Казань, — все это явление одного порядка.
Бибиков? Но бравый генерал Бибиков болен, слаб и нерешителен.
Перед походом надо было бы все-таки написать письмо его высокопревосходительству. Пусть он знает, на что способен подпоручик Державин. Не жалобу, которую он уже послал на губернатора Кречетникова, а именно небольшое частное письмо. Гордое, независимое и почтительное.
«Ваше высокопревосходительство, — так начал бы он это письмо, — ища всюду пользы для отечества и подвигнутый сыновьей любовью к премудрой матери нашей, решил я на собственный страх и риск предпринять освобождение города Яика.
И как это дело весьма сомнительное, в смысле несоответствия взаимных сил — моих и злодейских, — пишу вам сие письмо взамен рапорта. Ибо может случиться так, что свидеться не придется. Собрав 70 казаков и захватив с собой 4 орудия, я выступил встречу врагу и ныне...»
Такое письмо должно было произвести впечатление. Он еще раз прошелся мимо костров и уже хотел идти в палатку, как вдруг ему явственно послышалось, что его зовут. Он обернулся. Действительно звали.