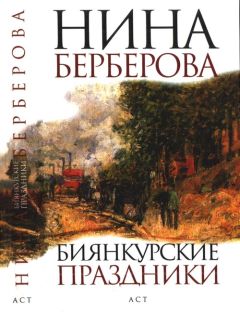Глава четвертая
Шайбин открыл кран: кипяток с силой хлынул в умывальник. Пар поднялся в пыльной маленькой комнате, замутил зеркало и окно так, что несколько минут ничего не было видно. Шайбин открыл другой кран, холодный, подождал, пока вода станет теплой, вымыл лицо, руки, шею и вытерся суровым полотенцем. Надо было спешить, надо было во что бы то ни стало поспеть.
Он едва пригладил мокрой щеткой редкие, длинные волосы. Как ненавидел он все эти необходимые движения! Он переменил воротник, вытер, чем бог послал, свои страшные сапоги. Времени у него было мало.
Но Илья не выходил. Дверь его, соседняя с дверью Шайбина, была закрыта, и за ней было тихо. Шайбин поднялся этажом выше. Никто не нагнал его. Здесь коридор был несколько темнее, в дальнем конце горел рожок. Шайбин едва не споткнулся о груду грязных простынь, вынесенных из открытого номера. Он два раза прошел до конца коридора, отыскивая нужную дверь. Этой дверью кончались его прежние странствования и начинались новые.
Он постучал, но никто не ответил ему. Он постучал еще раз, стараясь не думать, как войти, что сказать, — слишком много об этом было передумано. «Она не одна!» — промелькнула в нем отвратительная мысль.
— Кто там? — спросил женский голос.
И Шайбин вошел, потянул дверь и повернул за собою ключ.
Много позже он вспоминал эту минуту и ничего, кроме счастья и ужаса, не мог припомнить. И еще: край красной шелковой юбки, выбившейся из неплотно закрытого зеркального шкафа.
Нюша лежала, укрытая высокой периной; в комнате был полумрак, и она не сразу повернула голову к двери.
— Шайбин? — сказала она, вглядевшись в вошедшего. — А который час?
Он молчал. В комнате было жарко, пахло духами и папиросами, и повсюду были разбросаны Нюшины вещи: белье, чулки, сумка, даже шляпа, даже шуба.
— Я спрашиваю, который час? Ты оглох, Алеша?
Потом уже Шайбин заметил, что часы стояли у нее на ночном столике.
Она откинула перину, но осталась лежать, и тогда только он увидел ее: она остриглась, она похудела, она стала совсем другой.
— Ты, я вижу, в волнении, — сказала она, поднимая бровь, — повесь шубу на гвоздь, а сумку дай мне; вот тебе и кресло.
Он подал ей сумку. Она накрасила губы, закурила и легла повыше. У нее были светлые волосы, вьющиеся за ушами, а сами уши — маленькие, ровные, — словно чайные розы: светлые у краев, густо розовые в середине.
— Надолго, Алеша? — спросила она, неспешно разглядывая его, покуда он не сел. — Ты прямо из Марселя?
— Нет, я заезжал к Горбатовым.
— К Горбатовым? Ну, и что же?
— Ничего. Марьянна замуж выходит.
— За маркиза?
— Нет, за мясника.
— А Илья? — спросила она простодушно.
— Илья здесь.
— Здесь! — вскрикнула она, садясь на кровати, роняя папиросу на ковер. — С каких пор?
Шайбин молчал.
— Я пошутил, — сказал он, бледнея. — Он собирается, велел кланяться… Может быть, на будущей неделе…
— Как ты состарился! — сказала она холодно. — А по письмам мне казалось, что ты все тот же.
Комната была настолько тесна, что, сидя в кресле, Шайбин мог одной рукой дотянуться до стола, другой до кровати. Куда выходило окно? Там, за ним, было так тихо и темно, что это начинало его тревожить. Но Нюшины вещи были здесь, подле него, вещи, которые для него значили слишком много, которые имели такую власть над ним и унижали его так, как никогда ни одно живое существо не унижало.
Здесь были ее перчатки, дорогие, лайковые, с рисунком у запястья, маленькие и, вероятно, всегда теплые и немножко живые; здесь были ее кривые ножницы, без которых она дня не могла прожить и которые вечно терялись; здесь лежал пестрый шелковый платок в крупную клетку, книга в желтой обложке, чья-то записка; со стула свисали бледные чулки, прямо в подставленные туфли, а над грудой лент, подвязок и шелка хотелось плакать, хотелось дышать этим шелком, спрятав в него лицо.
— Как ты рано пришел, — сказала Нюша, — я еще спала.
Он на мгновение опустил голову.
— Дай мне руку, — сказал он, — ты еще не поздоровалась со мной.
Она протянула ему нежную, теплую руку с короткими розовыми ногтями.
— Ты знаешь, зачем я приехал? — спросил он, целуя ее в ладонь. — Я приехал жениться на тебе.
Она отняла руку и закрыла глаза.
— Алеша, — сказала она, — я тебя слишком знаю: мне скучно с тобою. Если я скажу, что я не согласна, ты побледнеешь и начнешь целовать мне ноги. Если я скажу, что согласна, — ты… ты, может быть, все-таки не женишься на мне.
— Молчи, молчи!
— Но я все-таки тебе скажу «нет». И не потому, что не могу тебе простить смерть Любы — ведь после нее девочка осталась, ты подумай, это в наше-то время! И не потому, что ты бросил меня три года назад. Я скажу тебе «нет» оттого, что я совсем не могу больше с такими, как ты, я слишком сама такая, как ты. Оставь меня в покое.
Шайбин пересел к ней на постель. Она отодвинулась от него, натянула одеяло.
— Всякой тревоге должен быть конец, — сказала она, — не обнимай меня.
— Я противен тебе?
— Ты не понимаешь меня; ты не противен мне. Ты моей душе брат, и мне неловко, мне тяжело с тобой. Я больше не могу.
— Другого любишь?
— Да.
Она угрюмо отвернулась, ресницы ее скрипнули по подушке.
— Илью?
Шайбин нагнулся к ее лицу. Он снова узнавал эти губы, этот сильный круглый подбородок, эти глаза.
— Илью, — сказала она.
В то же мгновение он коснулся ее губ. Она забилась у него в руках, но ее собственные руки были под одеялом, и он крепко держал ее. Он жестоко раздвинул ее прохладные зубы, и она затихла.
О времени в комнате можно было только догадываться: окно выходило в стену. Оттого и было так тихо, улица была далеко. Шайбин выпустил Нюшу и снова сел в кресло; руки его дрожали.
— Нет у тебя любопытства ко мне, — сказал он, — а без любопытства нет любви.
Нюша не двигалась.
— Нежность есть, — сказала она тихо, — такая, как к себе самой. Но больше насильно меня не целуй, Алеша, — разве можно целовать насильно после того, как мы целовались когда-то?
И она посмотрела на него так, словно хотела в памяти его воскресить дорогие и грозные мгновения.
— Дай мне увидеть тебя, — сказал он глухо.
Она покачала головой.
— Алеша, ничего этого не будет: мне своей тревоги довольно, нам нельзя вместе быть, мы оба пропадем.
— А ты что ж, спастись хочешь? — спросил он грубо.
Она с минуту грустно смотрела на него.
— Хочу спастись.
— Тебе не спасаться надо, а на содержание идти, — сказал он.
Она не потерялась. Она сделала движение головой, и волосы упали ей на глаза. Потом она долго не двигалась. Можно было подумать, что она не дышит, так неподвижно было ее тело под грубым голубым одеялом.
Зачем теперь было Алексею Ивановичу оставаться здесь? Ему пора было идти. Куда? Обратно на вокзал, ловить тот же поезд на тот же юг. Но не смешны ли, вообще говоря, подобные человеческие поступки? И Шайбин, взяв одну из перчаток, прижал ее к лицу. Неужели это было единственное, что оставалось ему?
— Нюша, — позвал он.
Она медленно повернула к нему голову.
— Нет, Алеша, — сказала она несколько гордо. — Будь «последним», если хочешь, а я не хочу. Авось уцеплюсь за что-нибудь, не погибну. Только — прежней жизни конец.
— Не надо тебе меня? — спросил он с мукой.
Она помотала головой.
— Мне ответ надобен, — сказал он тихо, — а ты в такой же тьме, как и я.
Тогда дикая тоска взяла Шайбина. Он встал с кресла, кинул перчатку на стол, сделал шаг к кровати.
— Ответ твой внизу, — сказал он с яростью, — комната тридцать четыре. Сегодня со мною изволил прибыть и до сих пор, как видишь, к тебе не пожаловал.
Последние слова слились у него во рту в кашу. Он повернулся, ударился коленом о стул, отпер дверь и вышел. Нюша побежала за ним в одной рубашке, высунула голову в коридор.
— Алеша! — выкрикнула она. Шайбин не оглянулся. Он сошел вниз все три этажа, сердце его отчаянно билось. До сих пор он еще не приметил ни города, ни улиц. Он спустился к ним, как спускается пьяный на дно своего пьяного омута.
День был, каким обещал быть. Ранний туман висел между домов. Асфальт блестел. Хоть дождя и не было, но все было влажно: скамейки бульвара, фонари и холодные камни. Шайбин прошел мимо двух-трех лавок, пересек широкую улицу, над которой стоял стон автомобильных рожков, и пошел незнакомыми переулками туда, где по его представлению должно было находиться кладбище.
Здесь над покойницкими склепами висел мост, по которому тяжело взбирались автобусы, со звоном и грохотом проходили трамваи. Воздушная улица перерезала кладбище надвое. Эти в различных плоскостях города прорубленные улицы до сих пор казались Шайбину чем-то чудовищным. В Париже он знал их в самых идиллических кварталах, но когда-то виденный Лондон и где-то неподалеку от царственного моста черные двухэтажные улицы Уайтчепля до сих пор оставались в памяти его, как теснящий душу кошмар.