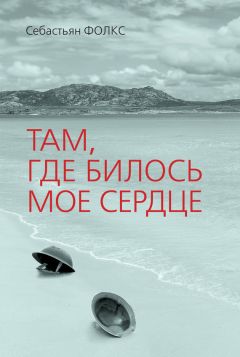— И это было так… так… — я никак не мог подобрать нужное слово. На языке вертелось «грустно», но это было не то. Речь шла о невыносимой скорби, скорби человека, который в силу непреодолимых обстоятельств вынужден был отказаться от счастья. — После он попадает в светлый Элизий, там зеленеет травка, там все цветет и благоухает, там блаженствуют тени героев и праведников. Там Эней и находит покойного отца. Старец признается, что очень волновался, поскольку сынок слишком уж задержался в Карфагене у своей возлюбленной Дидоны и из-за нее едва не забыл о пророчестве оракула, о своем высшем предназначении. Эней так счастлив видеть отца, что не может вымолвить ни слова. Пытается его обнять, но тень выскальзывает из рук. Трижды пытается он заключить отца в объятья, и трижды бесплотная тень ускользает…
У меня перехватило горло.
— Ну что ты, carissimo. Это же просто сказка.
Справившись с волнением, я продолжил. Рассказал про Лету, над которой парят души, летают целыми роями, как пчелы. И что им, душам, обязательно надо испить воды забвения, иначе они никогда не смогут возродиться. Когда я закончил этот эпизод из жизни Энея, почти стемнело.
— Дальше все у нашего героя пошло спокойнее, на личном, так сказать, фронте, никаких бурь. Он смирился с судьбой: что ему предначертано, так тому и быть. На все воля богов.
Луиза поднялась на ноги.
— Темно уже. Не хочу уезжать. Может, останемся тут?
— А тебя не хватятся Магда и Лили? Они же с ума сойдут, куда ты пропала.
— Магда все поймет. Сестра же. Я ей немного рассказала… про нас. А Лили сегодня вечером дома не будет. Но утром наверняка вернется, чтобы убедиться, что с ее крошками ничего не стряслось.
— Утром? А в котором часу?
— Завтра у нас воскресенье. Значит, не очень рано. Часов в девять.
— Если в семь отсюда выедем, в восемь ты точно будешь дома.
Улицы еще не успели остыть от дневной жары. Мы шли медленно, высматривая пристанище для ночлега. Я вдруг почувствовал, что из Италии перенесся на берег Босфора. Слева церковь с луковичным куполом, справа домики с угловатыми ставнями. У прохожего мы спросили, где можно остановиться. Луиза сказала, что еле поняла его диалект.
Мы выбрали гостиницу у моря. Кольцо с правого безымянного пальца Луиза надела на левый, хотя в журнал регистрации нас не внесли и администраторше мы были совершенно не интересны. Весь наш багаж составляли простой бумажный пакет с трофеем от сержанта Старка и нарядный сверток из магазинчика.
— Узнай, не найдется ли у нее зубной пасты и щетки, — попросил я.
Нам было сказано, что поужинать можно в ресторане, что в конце улицы, он работает до восьми.
Пол в номере был дощатым, два высоких окна с зелеными ставнями и маленький балкон с кованой решеткой выходили на морской док. В простенке между окнами висело деревянное распятие, а над кроватью — отвратительная репродукция картины с изображением озера Аверно.
Поразительно, что я запомнил все эти мелкие детали. Ведь ставни мы сразу закрыли и выключили верхний свет, оставив гореть только ночничок на тумбочке. Луиза разделась, совсем, сложила вещи на стуле.
— Теперь ты, любимый, — сказала она, уперев руки в боки.
Я повиновался, потом крепко ее обнял.
Матрас оказался жестким. Я устыдился своего набухшего члена, боялся напугать эту хрупкую застенчивую девушку. Однако она не испугалась, что меня, признаться, изумило. Сжавшись в комочек, я попробовал отвернуться, отодвинуться, но она мне не позволила и прошептала в самое ухо, что все хорошо.
Что было спустя какое-то время, я помню смутно. Наверное, мы оделись и пошли в ресторан поесть. Ужин был недолгим, наверное, потому что нам хотелось скорее снова остаться вдвоем.
Я проснулся раньше Луизы. Захватив пасту и зубную щетку (значит, кто-то их принес), тихо спустился в коридор, ведущий к ванной комнате. Вечером голосов и шагов других постояльцев я не слышал. А сейчас было около шести, только начало светать. Побриться было нечем, и, помню, я очень надеялся, что на обратном пути не наткнусь на кого-то из знакомых. Помылся холодной водой.
Тихонечко вернулся в номер и лег. Луиза еще спала, и при свете, пробившемся сквозь ставни, я впервые увидел россыпь темных веснушек у нее между лопатками. Захотелось провести по ним пальцем, по всем позвонкам. Бледная кожа туго обтягивала мышцы, ни намека на жировую прослойку. Луиза лежала на боку, край белой простынки примялся, полностью открыв одну грудь. Луиза выставила вперед колено, и там, где сходились оба бедра, темнела тень.
Мне очень хотелось разбудить Луизу поцелуем. И, словно почувствовав жар моего взгляда, она перевернулась на спину, распахнула огромные черные глаза и улыбнулась.
В следующую субботу мы с ней снова были в Поццуоли. На берегу там выложены огромные плоские камни, по которым местные рыбаки спокон веков втаскивали лодки и на них же расстилали сети. Нам сказали, что их и американцы использовали (в качестве сухого дока) при высадке барж с людьми и техникой. И людей, и технику потом отправят на север, в Анцио. В январе. Американцы убрались быстро, не оставив следов своего пребывания. К середине лета город опять замкнулся в собственной жизни, со своим диалектом и смесью архитектурных стилей. Гуляя по берегу, мы набрели на кафе, где нам подали морепродукт, которого я прежде не пробовал: мелкие моллюски, обваленные в муке и обжаренные в масле. Луиза сначала высмеяла этот «южный деликатес», предположив, что ракушки соскребли с днища лодки. Но распробовав, заказала еще.
Я понятия не имел, когда и в каком качестве меня вызовут в батальон. Луиза один раз уже отказалась переходить в римское отделение Красного Креста и думала, что второй раз ей не отвертеться. Я сказал, что поеду с ней. И представил себе маленькую комнатку в доме с садом на крыше, с видом на площадь близ тихой бухты.
Каждый наш день был как подарок, поэтому мы радовались, не давая воли грусти, не думая о том, что рано или поздно меня вызовут. Но неизбежность разлуки побуждала меня смотреть и смотреть на бледную кожу, на черные волосы, на то, как Луиза, откинув голову назад (если ее что-то смутило или удивило), изучает меня из-под полуопущенных ресниц. Из-за неотвратимости расставания мне позволяли снова и снова гладить выпуклость бедра, проводить кончиками пальцев вдоль плавной линии от талии до колена. Каждая клеточка моего тела в тот момент ликовала по отдельности, но все вместе они дружно приветствовали близость этой женщины бурей неслышимых, но неудержимых оваций.
Поймав себя однажды на таких мыслях, я с улыбкой подумал о миллионах синаптических взаимодействий (еще помнившихся из лекций по неврологии), которые сейчас на что угодно реагировали бурным «да». Я уже начинал узнавать ее любимые словечки, выражения, жесты — то, что обычно называют «характерными особенностями». Одни покоряли меня сиюминутной невероятной прелестью, другие — прелестью ожидаемой, когда радуешься уже знакомой фразе или движению. Это было время упоительного азарта, нечто похожее испытываешь, когда все четче становится изображение на снимке, погруженном в кювету с проявителем.
У Луизы обо всем имелось четкое представление, определенный набор шаблонов, но она умела — как тогда, с обжаренными моллюсками, — признавать свою неправоту. Счастливое свойство, никакого мелочного гонора. Конечно, она могла и вспылить, да еще как! Если ее что-то обижало, сверкали молнии и гремела пушечная канонада. Но она быстро остывала и больше к досадному эпизоду не возвращалась.
Я всегда скептически относился к парням, на все лады превозносившим своих возлюбленных, как будто до них никто никогда не испытывал нежных чувств. Сам я старался не очень-то заноситься, особенно в таких делах. И все же не мог не усмехнуться от самодовольного изумления, думая о том, какая необыкновенная со мной приключилась история. Генуэзская девушка из зажиточной благополучной семьи, католичка. Такая скромная, но при этом восхитительно пылкая, обожает арии Пуччини, разбирается в винах, любит картины Караваджо… и вдруг прикипела к английскому деревенскому парню, выросшему без отца, к перемазанному окопной грязью и кровью солдату, доверилась ему всецело и безоглядно. Крестьянин, осчастливленный их сиятельством графиней, что-то в этом роде. То есть абсурд полный. И ведь она понимала меня так, как никто другой из прежних друзей и знакомых. Она знала каждую родинку, каждый волосок на моем молодом, исхлестанном войной теле. И только когда я смотрел в ее глаза, которые были так близко от моих глаз, я осознавал, кто я. Впервые, только с Луизой я сумел найти себя.
Почему она была так бесконечно великодушна, так щедра ко мне? Правда, и она видела во мне источник радости; я хоть и не сразу, но почувствовал это и поверил, что так оно и есть. Думаю, со мной ей удавалось быть такой, какой ей хотелось быть, свободной от пут стыда и условностей. Она сама примерно это как-то мне сказала. Вероятно, ей тоже было странно, что обрести себя ей помог иностранный солдат, в надежде на знакомство подплывший к платформе в море.