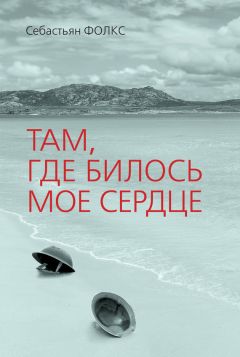…Мы лежали обнаженные на кровати, под отвратительным изображением озера Аверно. Луиза захотела поселиться в той же гостинице и в том же номере. Она гордо демонстрировала мне шелковые чулки, добытые у сержанта. Пояс для чулок из галантерейного магазинчика, reggicalze, состоял из множества тесемочек и ленточек и действительно выглядел как раритет из бабушкиного сундука. И пояс, и чулки Луиза снимала очень осторожно и укладывала на платье, ибо от соприкосновения с деревянной спинкой стула на драгоценном шелке могла спуститься петля, а это катастрофа. Она любила одежду со страстью, для меня непостижимой.
Убедившись, что все сложено идеально, удовлетворенно улыбалась, в своем невинном простодушии напоминая ребенка, не сознающего собственной наготы. И все не могла наслушаться моих рассказов, ей все было мало. А я постоянно держал в памяти девочку, которую пригласил тогда в офицерский клуб. Закрывал глаза и видел, как она, закончив говорить, опускает голову, словно стесняется смотреть на нашу компанию за круглым столом; руки сложены на коленях, не видных под краем столешницы, а колени целомудренно прикрыты подолом хлопкового платьица. Я снова открывал глаза и смотрел на то, что происходило на постели сейчас.
Луиза с удовольствием рассказывала о себе, но у меня складывалось впечатление, что жизнь ее началась с того момента, когда она увидела, как мы с Дональдом ныряем. Период до этого события был представлен набором отдельных, более или менее благопристойных эпизодов, в которых сама Луиза участвовала словно бы за компанию, по инерции. Меня эта фрагментарность несколько озадачивала.
Уже под утро мы, лепеча исступленный вздор и тая от нежности, снова соединялись, после чего жутко хотелось спать. Мы закрывали ставни, чтобы не бил в глаза свет из порта, но окно оставляли распахнутым настежь. От адской жары обнимать друг друга было невозможно, каждое прикосновение жгло. Но я все равно не убирал ладонь с ее мыска между ног. Я просто не мог ее убрать, даже когда затекало запястье.
Теперь, когда я уверовал в то, что Луиза меня любит, в душу закралась тревога. Без меня, думал я, она больше никогда не сможет быть собой. Или вдруг случится нечто непредвиденное. Ребенок, например. Или в нашу жизнь вмешается сторонняя сила, которую ни ей, ни мне не преодолеть.
В то лето я регулярно отмечался в штабе бригады, но воспринимал эти визиты как формальную процедуру. Скучающий штабной в очередной раз выдавал предписание на медицинский осмотр, но вроде бы отправлять в действующую армию никто меня не собирался. Я объяснял себе эти отсрочки временным затишьем после взятия Флоренции, Союзническое командование готовило новые вызовы противнику.
Каждый раз, когда мне даровали еще неделю отсрочки, Луиза плакала от радости. Мы отмечали отсрочку ужином при свечах, сидя за столом в садике у ее дома, когда солнце уже погрузилось в море.
Райская идиллия оборвалась в то утро, когда я получил приказ прибыть в Рим для окончательного освидетельствования. И уже назавтра на цыпочках выходил из комнаты Луизы, чтобы на первом же автобусе ехать в Неаполь, на вокзал.
Мужчины в вагоне были давно не бриты, а женщины — в залатанных платьях, сшитых и перешитых из того, что удалось найти. Некоторые везли с собой цыплят в плетеных клетках. Было много детей, одетых в старье. Сгрудившись в середине вагона, они изумленно таращились на лощеного английского вояку, на его майорский мундир с блестящими пуговицами, которые этой ночью, обливаясь горькими слезами, старательно начищала вояке его генуэзская возлюбленная.
Кто-то читал газеты, кто-то играл в карты, но большинство пассажиров были заняты разговором, в котором принимал участие весь вагон. Беседа то почти затихала, то снова разгоралась, как костер от порыва ветра. Стараниями Луизы я теперь гораздо лучше понимал итальянский и мог уловить суть сказанного. Однако моя разговорная речь по-прежнему оставалась корявой и примитивной (зря я, дурак, поверил Суонну, утверждавшему, что итальянский можно выучить на раз-два). Через час старушка, сидевшая рядом, протянула мне кусок салями, обернутой в газету, так настойчиво тыча в меня газетным свертком, что я не понял, шутит она или грозит. На вкус колбаса оказалась гораздо лучше, чем на вид.
Другие соседи, человек двенадцать, принялись извлекать из потрепанных сумок и узелков, а то и из карманов всякий провиант: булочки, персики, куски сыра; у одного попутчика нашелся даже бурдюк вина. Хлеб был роскошью, но и его поделили на всех. Обсуждали приход союзников во Флоренцию. Вспоминали, что немцы взорвали все мосты, уцелел один Понте-Веккио, потому что фюрер счел его «слишком прекрасным». У одних эта дань восхищения своей стране вызывала гордость, другим было смешно, что человек, уничтоживший миллионы жизней, пожалел мост, ах, какое благородство.
Я смотрел в окно на поля, по которым должен был прошагать победным маршем в одном строю с Роналдом Суонном, Биллом Шентоном и остальными ребятами. Но ничего, зато я получил утешительный приз…
На вокзале в Риме оккупанты почти не оставили следов. Как когда-то сами итальянцы, немцы объявили Рим «открытым городом», правда, в несколько иной трактовке: они не стали препятствовать заходу туда наших войск. В связи с этим обстоятельством самодовольное ликование генерала Кларка выглядело в высшей степени странным. Вот о чем я думал, договариваясь с местным таксистом, чтобы тот отвез меня по указанному в штабе адресу на виа Дзафферано, неподалеку от Тибра.
Строение оказалось огромным особняком, временно реквизированным. Я поднялся, как было предписано, на второй этаж, секретарь (итальянец) провел меня в комнату ожидания. Там никого не было. Изредка доносилось эхо чьих-то шагов из огромных залов роскошного бельэтажа. Потом и шаги смолкли, полная тишина. Наконец, явилась медсестра из английского филиала Красного Креста и препроводила меня в оборудованный, опять же на время, кабинет. Хирург из британских сухопутных сил осмотрел мое плечо. Рука двигалась еще с трудом, но хорошо зажила, и шрам от пули был довольно аккуратным. Эскулап остался доволен.
Он вывел меня из кабинета на лестничную площадку, подвел к двойным дверям, постучался и жестом пригласил войти. Внутри стоял стол, за ним — четыре офицера. Два военврача, один из пехотных войск, один из военной разведки. Кроме этого стола и нескольких стульев, другой мебели в огромной комнате не было. Стол стоял перед большим мраморным камином. Помещение напоминало судейское.
Глава синклита откашлялся и улыбнулся:
— Садитесь, майор Хендрикс. Позвольте представиться, Прайс. Прежде чем отпустить вас снова бить врага, должен задать вам несколько вопросов. Судя по предыдущему обследованию в Неаполе, после контузии возникли некоторые осложнения. Как с этим обстоит сейчас?
— Меня вызывали для повторного обследования. Я прошел ряд тестов.
— Каких тестов?
— Для проверки памяти. Плюс визуальные тесты.
— Ну и как, успешно вы с ними справились?
— Насколько мне известно, вполне. Но мне предложили еще немного отдохнуть, для подстраховки.
— Понятно. Головные боли не мучают? Приступы головокружения?
Я подумал про нас с Луизой и про ее подружек из Красного Креста.
— Нет, ничего такого. Все нормально, — сказал я.
— Превосходно. Доктор Уилкокс только что доложил мне о результатах сегодняшнего осмотра, и если коллеги не возражают… — Он обвел взглядом сидящих за столом, и те дружно помотали головами. — Я сегодня же свяжусь с вашим командиром. Спасибо огромное, что приехали. Зайдите завтра, возможно, мы уже получим ответ от вашего командира. Офицерский клуб в десяти минутах ходьбы отсюда, на Кампо деи Фиори, если вам негде остановиться. Всего доброго.
Я решил прогуляться до Форума. Никогда не был в Риме, но он постоянно присутствовал в моей школьной жизни. Мы так скрупулезно изучали биографии Цезаря Августа и Квинта Фабия Максима, что они стали для меня реальнее иных выдающихся деятелей, знакомых по истории родной Англии. И вот я брожу среди руин храмов, по древней рыночной площади, и чувствую, как оживает иной, исчезнувший мир. Поднимаясь по разрушенным ступеням, я слышу гневную речь Цицерона, обличающего заговорщика Каталину. А вот строй закованных в цепи нубийских рабов, выставленных на продажу… Я словно наяву видел, как блестит под солнцем их черная кожа. В тени кипарисов, на боковых дорожках, примостились торговцы вином, сводники и портные.
Храм можно было строить в честь кого угодно, главное, отстоять свое право. Право. Понятие, подаренное Римом миру. Ты можешь быть богом, героем мифа, просто героем или просто человеком. Но если ты способен заставить верить в себя, у тебя будет свой храм. В голове прозвучала знаменитая фраза Вергилия: «Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt»[30]. В пятом классе мы все пробовали ее перевести, но мистер Лиддел никого не увенчал лаврами. Я предложил такой вариант: «Без слез нет ничего, ибо трогают душу думы о бренности жизни».