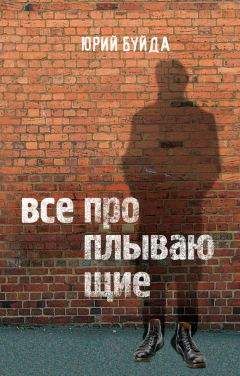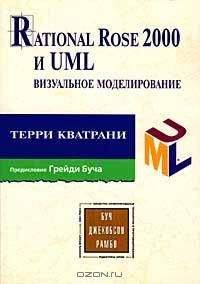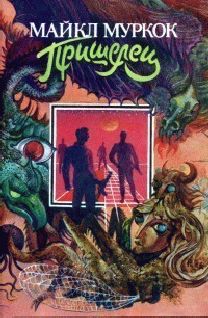На Иду смотрели косо: ведь пропадали именно ее голубки. Только голубки.
Следователь спрашивал, не подозревает ли она кого-нибудь. Ида качала головой: нет. Она и в самом деле никого не подозревала.
Но когда исчезла четвертая голубка – двенадцатилетняя Женя Абелева, Ида попросила меня проводить ее в милицию.
За эти дни Ида исхудала и почернела.
Когда она начала говорить, губы у нее задрожали.
Пан Паратов налил ей воды.
– Когда они пропадают, – сказала Ида, – в дверь стучат. Сначала я не придавала этому значения, думала, что мне мерещится… а теперь я знаю: это не случайность…
В ту ночь, когда пропала первая девочка, она услыхала стук в дверь.
Часы в Африке пробили три, Ида встала, спустилась вниз и открыла дверь, но на крыльце никого не было. Тогда она подумала, что стук в дверь ей послышался. Мало ли, бывает. Но через два дня, когда пропала Аня Шакирова, в дверь снова постучали. И на этот раз никакой ошибки не было – Ида отчетливо слышала стук: раз-два-три, пауза, раз-два-три, пауза и снова – раз-два-три. Не стук, а грохот. Она вышла на крыльцо, но снова никого не обнаружила. В чем была – в пальто, шляпке и домашних туфлях – она поднялась к площади и увидела на крышке колодца туфельки Ани Шакировой. Ида не могла понять, почему отправилась на площадь, и не уловила никакой связи между стуком в дверь и исчезновением голубки. Спустя пять дней она опять услышала стук в дверь, поднялась к площади и нашла на крышке колодца туфельки Лолы Кузнецовой, цыганочки, и вот тогда Ида поняла, что стук в дверь не был случайностью – он предназначался ей, он был зовом и вызовом.
Пропадали только девочки-голубки, и всякий раз кто-то хотел, чтобы первой об этом узнала Ида Змойро.
– «Макбет», – сказала она. – Когда зло свершилось, в ворота постучали… второй акт, сцена вторая…
Пан Паратов посмотрел на меня. Я пожал плечами.
– И вы никого не видели? – спросил Паратов.
– Никого, – сказала Ида. – Оно проснулось и пришло… оно уже здесь…
Пан Паратов на минуту растерялся. Он уже слышал эти слова. Их все в Чудове слышали. Их выкрикивал городской сумасшедший Шут Ньютон, таскавшийся по городу со стулом в руках, старик в коротких жалких брючишках. Он ставил стул посреди площади, залезал на него и надрывно выкрикивал: «Карфагеняне! Оно уже здесь! Оно вернулось, карфагеняне!» Он всегда выкрикивал эту бессмыслицу, этот сумасшедший старик, но теперь никто над ним не потешался: оно ведь и впрямь вернулось, оно ведь и впрямь было уже здесь.
– Ида Александровна, – сказал Пан Паратов, – ее туфелек пока не нашли…
– Ее?
– Жениных. Жени Абелевой. Ее туфелек мы пока не нашли. Ни ее, ни туфелек.
На том их разговор и закончился.
Я проводил Иду до Африки.
– Кто-то хочет меня отменить, – сказала она. – Кто-то хочет уничтожить все, чем я жила. Кто-то хочет уничтожить меня, прежде чем я все пойму и произнесу последнюю реплику. Но я доиграю, Пятница…
– Что поймешь? Что доиграешь, Ида?
Она поцеловала меня в лоб и скрылась за дверью.
Я привык к ее манере выражаться, но в ту минуту мне показалось, что Ида тронулась умом. Похоже, она вообразила, что против нее восстало все мировое зло. Мысль о том, что она и есть центр мира, его ось и ограда, была спасительной для Иды, избравшей судьбу человека-невидимки, замкнувшегося в своем мире. Но вот кто-то четырьмя ударами – Лиза Добычина, Аня Шакирова, Лола Кузнецова, Женя Абелева – разнес этот мир вдребезги, и у восьмидесятипятилетней женщины уже не было сил, чтобы снова выстроить свой дом. Она преодолела все и вся – черное родимое пятно, увечье, Сталина, Жгута, генерала Холупьева, Эркеля, смерть близких, невостребованность, одиночество, бедность, она день за днем выстраивала свою жизнь так, как ей хотелось, пока судьба, как ей казалось, не оставила ее наконец в покое, может быть, потому, что у Иды не осталось ничего такого, что еще можно было бы отнять, – и вдруг на исходе жизни все полетело в тартарары… удар, удар, удар, еще удар – и все, и нет ничего, потому что этой самой судьбе вдруг стало угодно отнять у нее даже ее «ничего»…
Я стоял во дворе Африки, тупо глядя на дверь, и в голове моей крутились три строчки, три чертовых строчки: «Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозящих пламени; лоскут накинут На венценосное чело…»
Той ночью, когда часы в Африке пробили три, Ида открыла глаза, сунула ноги в домашние туфли без задников с надписью на стельках: «Rose of Harem», надела черное чугунное пальто до пят – у порядочных женщин нет ног – и високосную шляпу, распахнула окно и выпустила из спичечного коробка Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, Господа нашего, Спасителя и Stomoxys Calcitrans.
Муха не хотела улетать: за окном лил дождь, было ветрено, холодно. Ида вернула муху в спичечный коробок, спрятала его в карман, закрыла окно и спустилась во двор.
На полпути к площади она упала на колено, потеряла туфлю, ветром сорвало шляпку, и в милицию Ида явилась босой, простоволосой, промокшей до нитки, в распахнутом пальто.
Она постучала – дверь тотчас распахнулась.
– Я перепугался, – рассказывал мне потом Пан Паратов. – Я же никогда не видел ее такой.
И никто ее в Чудове такой не видел – расхристанной, всклокоченной, возбужденной, да еще и босой. Она же всегда была другой: гордо вскинутый подбородок, твердый взгляд, ясный ум. А тут вдруг – ведьма ведьмой, страшная, косматая, промокшая с ног до головы, задыхающаяся. Она шагнула к Паратову, протянула руку, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, и вдруг упала – Паратов едва успел ее подхватить.
Пьяница Люминий отвез ее в больницу. Он толкал перед собой тачку, с которой свисали старухины босые ноги, а сзади бежала горбатенькая Баба Жа с туфлей Иды в руках.
Во дворе Немецкого дома их уже ждал доктор Жерех. Иду внесли в приемный покой. На шее у нее вместо креста висел почерневший от времени ключ, а в кармане пальто обнаружили спичечный коробок с мухой. Доктор кивнул, тело накрыли простыней и увезли.
Утром стало известно, что Ида среди ночи явилась в милицию. Об этом говорил весь городок – о всклокоченной старухе, которая глубокой ночью босиком заявилась в милицию, чтобы открыть Паратову имя злодея, похитителя голубок. А иначе зачем бы ей было вскакивать среди ночи с постели и босиком – босиком! – бежать под дождем в милицию. Должна быть веская причина, чтобы женщина в таком возрасте вылезла из теплой постели и босиком – босиком! – отправилась под проливным дождем в милицию. Она была готова произнести имя преступника, но тут ее хватил удар. Она не выдержала волнения и упала в обморок, по инерции шевеля губами. Обморок был так глубок, что все поначалу решили, будто она умерла. Поначалу и пульс не прощупывался. Даже доктор Жерех решил было, что Ида мертва. Ее накрыли простыней, как накрывают трупы, и чуть не отправили в морг. Но что-то не давало доктору Жереху покоя, и, когда он снова обследовал Иду, выяснилось, что она не умерла. Сердце ее делало всего десять-пятнадцать ударов в минуту, но она была жива. А значит, когда она очнется, все узнают имя преступника, похитителя голубок, а может быть, не дай Бог, и убийцы.
Босая Ида, глубокая ночь, дождь, обморок, десять ударов в минуту, имя убийцы – с утра весь городок говорил только об этом.
Я договорился с директрисой школы о замене и бросился в больницу.
Иду поместили в палату на первом этаже, в ту самую маленькую комнату, где когда-то умирал Коля Вдовушкин. Но теперь в палате было окно, а от коридора она отделялась не кирпичной стеной, а стеклом от пола до потолка.
Ида лежала на спине, укрытая до подбородка простыней. Лицо ее было спокойным, и на миг мне показалось, что она улыбается. Спящая красавица. Я взял ее руку, и вдруг нахлынуло – разом, беспорядочно, грубо: стук ее швейной машинки, запах горячей целлулоидной пленки, гридеперлевое платье, ее волшебный гнусавый голос, огнем подкованные кони… вся ее жизнь, вся моя жизнь… я не выдержал и заплакал…
– Она жива, – услышал я за спиной голос доктора Жереха. – Это шок.
Я обернулся.
Доктор Жерех сидел в кресле у стены, посасывая свою уродливую трубку.
– Это шок, – повторил старик. – Она впала в сон – это случается при сильном волнении.
– Она проснется? – спросил я.
– Ей восемьдесят пять, – сказал Жерех. – Но сердце у нее еще ничего. Больше я пока сказать ничего не могу, Алеша. Будем ждать.
– Сколько?
Доктор Жерех пожал плечами.
В палате Иды дежурили медсестры и врачи. Каждый день к ней заглядывал майор Пан Паратов. Стеклянную стену завесили простыней, чтобы отвадить зевак, которые приходили в больницу – хоть одним глазком поглядеть на женщину, хранившую страшную тайну.
Проведать Иду приходили ее голубки, Алик Холупьев, Маняша Однобрюхова с внуками…
Библиотекарша Люся Гонтмахер, внучка легендарной библиотекарши Георгины Самойловны Бебехер, урожденной Гагахер, вычитала в какой-то книжке, что в 1485 году при строительстве римской церкви Санта Мария Нуова был обнаружен саркофаг с телом прекрасно сохранившейся пятнадцатилетней девушки, похороненной задолго до нашей эры, то есть до Рождества Христа. Казалось, она лишь минуту назад задремала. Ресницы ее подрагивали, но она не просыпалась. К телу ее началось паломничество. Чтобы прекратить это безобразие, папа Иннокентий велел девочку перезахоронить, а солдат из похоронной команды разослал по отдаленным гарнизонам, чтобы тайна красавицы умерла вместе с ними.