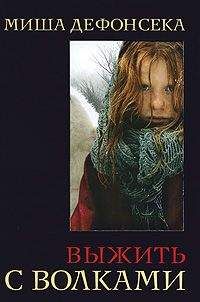Я начала двигаться снова, когда захотела, дней через пятнадцать. Я больше не доверяла учительницам. Я мечтала лишь о побеге, но единственная возможность выбраться отсюда — пройти проклятый конкурс в педагогический колледж, а для этого я должна была смириться с тем, чтобы вместить три года дополнительных занятий в один. А потом встретиться с конкурсной комиссией.
Я была таким неконтролируемым и трудным ребенком, что Сибил и Леонтин поместили меня в пансион при монастыре, где учителем опять же был священник. Монастырь с высокими стенами был моей тюрьмой. Я занимала комнату на последнем этаже, предназначенном для учеников. Занятия были бесплатными, но я работала на сестер, чтобы оплачивать жилье. На втором и третьем этаже ютились старики. Это был дешевый приют с коридорами, пропахшими мочой. Я получала бесплатную поношенную одежду. Да, не о таком гардеробе я мечтала, ведь я так любила яркие цвета и хотела жить любой ценой.
Раз в неделю меня отпускали на час, поэтому я не так остро реагировала на обязательные визиты домой к Сибил и Леонтин.
Я должна была привыкнуть ходить по улице в одиночку. В первый раз мне было одновременно радостно и страшно. Сначала я обошла все зеленые места в городе, меня вело слабое воспоминание о том, как папа за руку вел меня по парку. Не знаю по какому. Потом я попробовала гулять с другими девочками, глазеть на витрины, чтобы привыкнуть к толпе, всегда внушавшей мне страх.
В конце концов я открыла для себя новое одиночество городского типа, когда чувствуешь, что совсем один посреди людей. Выдержать это было гораздо труднее, чем выжить в лесу, бороться с ветром, снегом, холодом и жарой. Если бы со мной были мои друзья-животные, то мне было бы гораздо легче противостоять ударам и потрясениям. Поэтому в монастыре я приручила крысу. Она пробралась в мою комнату через вентиляционную трубу в стене. Когда я заметила зверька, то расширила дырку у пола и положила возле нее кусок сыра, который стащила на кухне для моего нового друга. Очень скоро крыса подросла и отъелась, мне пришлось увеличивать дырку, чтобы зверек мог пролезть. Я разговаривала с крысой, как прежде разговаривала со свободным лесным миром, и это очень успокаивало меня по вечерам. Когда я лежала в кровати, она забиралась на одеяло, садилась на задние лапки и принималась умываться. Я щекотала крысе животик, она тихонько попискивала, словно говорила: «Мне с тобой хорошо».
Она была моим единственным утешением. Когда заканчивались уроки, я бежала в комнату, бросала книги на стол, садилась на колени рядом с норкой и звала:
— Мошэ? Мошэ? Маленький принц, иди покушай сыру!
Я слышала, как внутри трубы что-то царапается, а потом появлялась его красивая мордочка. Я с восторгом наблюдала за тем, как он ест. Мошэ был моим единственным утешением в мире людей. На протяжении жизни у меня были самые разные друзья. Собаки и кошки, а еще змея, скунсы, опоссумы, олени, барсуки и птицы. Я жить без них не могла.
Я подозревала, что это сестра Мари с маленьким круглым лицом отравила Мошэ. Я швырнула ей в голову тарелку и закричала, что не хочу быть католичкой!
Однажды в выходной день, вместо того чтобы идти к мадемуазелям, я притворилась, что у меня занятия. Я отправилась на поиски моего детства, моих пропавших родителей. Я не хотела, чтобы они были на небе, в чем меня без конца пытались убедить. Мне не нужен был «ангел», который должен был опекать меня вместо них. Я хотела, чтобы вернулась моя мама; мечтала о ее волосах, об их аромате, хотела, чтобы вернулся папа, который называл меня «своей красавицей». Я искала школу, улицы, дом с балконом, а смогла достать лишь две фотографии с незнакомыми людьми, которые, возможно, тоже пропали во время облав того проклятого времени. Они будут моей памятью. Я часто рассматривала эти фотографии, проходя мимо них. Мужчина и женщина, неизвестные мне люди, мой личный памятник, к которому я каждый день приносила цветы. Если другие забыли их или умерли вместе с ними, то я выжила, чтобы воздать им почести.
Я пришла в городской муниципалитет, чтобы исправить свои личные данные. Меня звали Мишке, с тех пор, как я поселилась у Сибил и Леонтин, я не отзывалась на имя Моник. Тогда они решили звать меня Монику, но это имя мне тоже не нравилось. Я обратилась к служащему:
— Здравствуйте, дело в том, что Моник Валь — это не мое имя, я хотела бы, чтобы меня записали под фамилией моих родителей!
— Неужели? А как их звали?
— Геруша и Ревен…
— А фамилия?
— Я не знаю.
— Но у тебя-то есть фамилия?
— Да, но она не моя.
— Послушай, вот тут записано твое имя. Что тебе еще нужно?
— Но это не мое имя!
— А тут уж ничего не поделаешь, малышка. Иди… Не усложняй себе жизнь, у тебя есть имя, так храни его!
Я сходила туда еще раз, наверное, они приняли меня за сумасшедшую. Тогда я сказала себе, что фамилия не так уж и важна. Я сделала себе маленькое удостоверение личности. Мишке, дочь Геруши и Ревена, родилась 12 мая 1934 года. Я решила оставить день рождения 12 мая, я верила, что люди, которые изготовили фальшивые документы, скорей всего сохранили эту дату. А буква «М» в имени «Моник» напоминала о Мишке. Что касается Валь, то это была дедушкина фамилия, и этим я осталась довольна.
Я сдала экзамены, провалившись на одном вопросе, но потом исправила положение. Но я не хотела быть учительницей. В учебниках не было того, чему я учила детей. Я гуляла с ними, рассказывала истории о животных, по-своему объясняла, как устроен мир, и им понравился мой подход, но взрослые были недовольны. Я больше не могла терпеть монастырь, который хотел распоряжаться моей жизнью. А потом зашла повидать дедушку, которому запретили меня навещать. Он в одиночестве старел в маленькой квартирке. Но свобода для него по-прежнему была священной:
— Живи своей жизнью, снимай свои лохмотья, здесь для тебя всегда найдется место.
Я ютилась там всего неделю, а потом мне впервые улыбнулась удача. Меня взяли на работу в морскую компанию, и я пообещала дедушке, что, когда стану «богатой», мы будем жить вместе.
Я стала взрослой и, более того, отправилась в путешествие, чтобы вырваться из узкого мира, полного ограничений и принципов, которые я не принимала. Я выбрала свой мир.
На борту корабля, курсировавшего между Бельгией и Конго, я встречала и размещала пассажиров, а еще присматривала за детьми во время плавания. Я наконец-то освободилась от удушливой монастырской заботы и сама зарабатывала себе на жизнь. Зарплата у меня была неплохая, жилье — как раз по мне, и хотя я понятия не имела о таких сложностях свободной жизни, как арендный договор, счета и плата за электричество, я справилась.
Суда перевозили цитрусовые, пряности и экзотические фрукты, а порой брали на борт и пассажиров, когда возвращались в Бельгию или отплывали в Конго. Мир в миниатюре, город, плавающий вне времени. У меня была красивая форма, позолоченные нашивки, кепи — новая одежда только для меня. Я хотела, чтобы моя новая свобода была похожа на фейерверк, хотела забыть о несчастьях, въевшихся в кожу, избавиться даже от памяти о своем горе. Я зубами вцепилась в жизнь, я сама была жизнью. Это время было подобно взрыву. Я хотела все попробовать, знакомиться с мужчинами, пить, веселиться, танцевать. Я ни в чем себя не ограничивала, жила как моряк — праздник в каждом порту.
Огромный железный корабль, пропахший пряностями, привез меня в порт Матади, расположенный в устье реки, которую сегодня называют Заир. Это было в Конго (стране, что прежде принадлежала Бельгии), в самом сердце Африки, полюбившейся мне земли, полной звериных запахов.
Никто не провожал меня на пристань, никто не ждал моего возвращения, поэтому между высадками в портах я продолжала заниматься тем, чем всегда занималась: разговаривала сама с собой, с облаками, с животными. Но теперь я еще и писала. Черные блокноты сопровождали меня повсюду, я умудрялась накарябать что-то даже на коробках из-под пива.
А когда выпадала возможность, я веселилась с моряками в одном из баров Матади — «Доме для гостей». Капитан корабля часто ласково обращался ко мне:
— Помните, что вы все-таки девушка!
Он рвал на себе волосы, когда я вместе с экипажем уходила пить и драться; летели табуретки, наши моряки колотили летчиков и наоборот, а потом мы возвращались на корабль, чтобы перевязать раны и синяки.
— Я не могу запретить вам сходить на сушу, — говорил бравый капитан, — но, черт возьми, вы все-таки женщина!
Я пила все: ром, пиво, коньяк, виски — и порой утром я просыпалась на полу своей каюты и абсолютно не помнила, как я до нее добралась. Зато меня больше не переполняло горе. Я не хотела ни печалиться, ни прощать. Когда я наряжалась в яркое платье перед выходом, я говорила себе:
— Сегодня вечером я оделась, чтобы сокрушать!